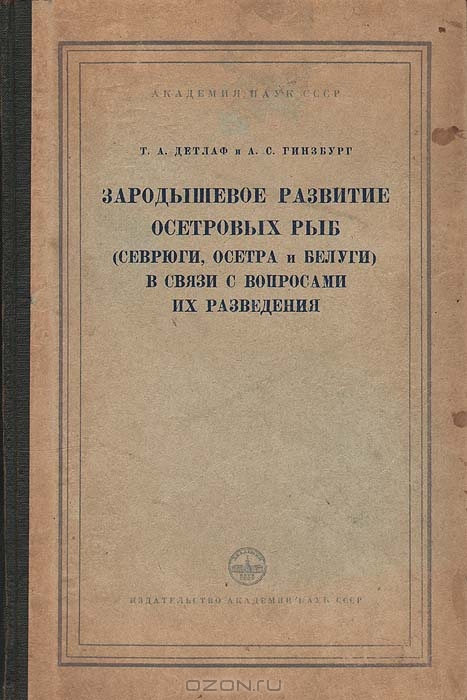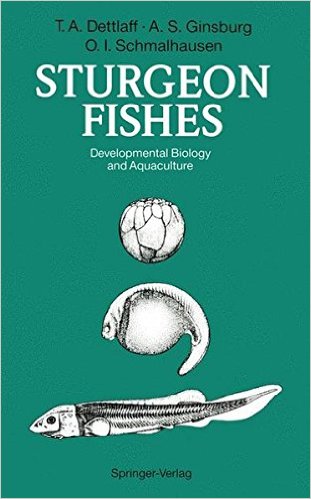Кузин Борис Александрович (1945 – 2018) Генетик. Продемонстрировал взаимодействие гомеозисных генов комплекса Antennapedia с геном spineless в процессе развития конечностей насекомых. Показал роль гена, кодирующего NO-синтазу (фермент, отвечающий за образование оксида азота) в поляризации клеток, формирующих глаз насекомых. Установил связь между RB-сигнальным путём, контролирующем пролиферацию клеток, и NO-сигнальной трансдукцией. Создатель лаборатории генетических механизмов органогенеза. Заместитель директора ИБР по научной работе. Подробнее...
Доктор биологических наук, профессор
Борис Александрович Кузин был выдающимся ученым-генетиком. Он родился 17 января 1945 года в поселке Толмачево – пригороде Новосибирска (до 1957 года на месте Толмачёво был военный аэродром), в семье летчика Александра Владимировича Кузина, который во время войны был командиром транспортного авиационного полка, орденоносцем нескольких высших орденов СССР, а позже летчиком гражданской авиации. Мама Бориса Александровича – Любовь Григорьевна (девичья фамилия Пелипенко), родившая еще двух дочерей и старшего сына была домохозяйкой. Борис Александрович закончил в 1968 году биофак Ростовского-на-Дону университета, по специальности генетика. На четвертом курсе сумел добиться прохождения практики в отделе общей радиобиологии и генетики в Институте медицинской радиологии АМН СССР, в Обнинске. Отдел возглавлял выдающийся генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский, который сыграл большую роль в возрождении генетики в СССР. Здесь, еще, будучи студентом, он под руководством Н.В.Тимофеева-Ресовского и Евгения Константиновича Гинтера приобщился к науке (академик РАН Евгений Константинович Гинтер ныне научный руководитель ФГБНУ "Медико-генетический научный центр”). Оканчивая среднюю школу в школе рабочей молодежи, Борис Александрович работал учеником слесаря, научился работать руками, и всю жизнь за ним шла слава – «мастер золотые руки». Он умел вытянуть из стекла тончайшую микропипетку, сделать приспособления к ней, и умел пересаживать имагинальные диски в имаго дрозофилы. Это позволяло ему определять готовность к дифференцировке клеток глазных и антенных имагинальных дисков дрозофилы. Надо сказать, что гомеозисные мутации у дрозофилы интересовали Бориса Александровича всю жизнь, и он время от времени возвращался к исследованию этой интереснейшей группы генов.
Б.А. Кузин с коллегами
Следующий этап жизни Кузина связан с работой в Новосибирском Академгородке в отделе Леонида Ивановича Корочкина, выдающегося российского генетика и эмбриолога, где он участвовал в исследованиях по генетике эстераз разных видов дрозофилы. В дальнейшем, когда Корочкин переехал в Москву, Борис Александрович последовал за ним и работал в его лаборатории. Лаборатория молекулярной биологии развития была организована Корочкиным в ИБР РАН в 1980, и он бессменно руководил ею на протяжении 26 лет. Л.И. Корочкин – основатель научной школы России "Новые подходы к генетике развития с использованием ксенотрансплантации нервной ткани". В 1998 г. в результате слияния двух научных групп была создана лаборатория генетических механизмов органогенеза, которую возглавил д.б.н. Б.А. Кузин. Надо сказать, что во время работы в ИБР РАН Борис Александрович Кузин в течение порядка 10 лет был зам. Директора Института по науке и делал всё возможное, чтобы продолжить и развить идеи Бориса Львовича Астаурова и организовать исследования по биологии развития на современном уровне. В этом отношении очень полезным оказалось многолетнее сотрудничество Кузина с выдающимся молекулярным биологом Григорием Ениколоповым, вместе с которым было опубликовано более 30 статей, в том числе в таких журналах, как «Cell», «Genes and Development», «Current Biology», и других важнейших форумах биологической науки. В частности, впервые годы работы Б.А. в ИБР, им удалось проклонировать ген эстеразы Drosophila virilis, над которым долго, еще с Новосибирска, работали группы Кузина, Евгеньева и Корочкина. У гена не было известно каких-либо клонированных к тому времени аналогов, и он оказался первым в СССР «оригинальным» клонированным геном, кодирующим важный белок. В 1984 году Б.А. Кузиным была создана одна из первых групп в СССР по созданию трансгенных животных. Следует отметить, что в эти годы технология получения трансгенных животных с помощью микроиньекций в пронуклеусы оплодотворенных яйцеклеток еще только развивалась на Западе и была совсем не рутинной процедурой. На первом этапе, совместными усилиями групп Кузина и Ениколопова были получены линии трансгенных мышей с введением в геном различных генетических конструкций. В качестве трансгенов использовались, в том числе, гены гормона роста различных животных, ген белка оболочки вируса гепатита В (HBS–антиген) и другие, поставленные под контроль различных регулируемых промоторов. После успешного получения трансгенных мышей с различными конструкциями, в сотрудничестве с ВИЖ были проведены опыты по созданию трансгенных кроликов и свиней, которые также увенчались успехом. Одновременно, на базе ВИПРХ были получены трансгенные карпы. К сожалению, несмотря на свою успешность, эти работы пришлись уже на период 90-х годов и не нашли своего продолжения, так и оставшись успешными научными экспериментами. В течение почти 15 лет (1991-2004) Борис Александрович Кузин связал свою научную судьбу с рядом ведущих центров США. Надо отметить, что во все эти годы Кузин сохранял свою группу, а потом лабораторию в ИБР и работа в США помогала вести исследования на современном уровне, что было практически невозможно в то сложное для России время.
Кузин Б.А. В США Борис Александрович работал сначала в Университете Томаса Джефферсона в Филадельфии, а затем в знаменитой Лаборатории Колд Спринг Харбор, которой руководил Джеймс Уотсон (и который относился к Борису Александровичу с неизменным уважением и интересом). К этим годам относится обнаружение взаимодействие гомеозисных генов комплекса Antennapedia с геном spineless в процессе развития конечностей насекомых, а также важнейший цикл работ Бориса Александровича по генетической роли NO синтазы (фермента, отвечающего за образование монооксида азота монооксида азота). В продолжении сотрудничества с группой Ениколопова, им была показана критическая роль NO в развитии имагинальных дисков дрозофилы и формируемых ими органов, и в поляризации клеток, формирующих глаз насекомых. Им была также исследованы основные механизмы действия NO в развитии и показана связь между сигналами NO и основными сигнальными путями, в частности, Rb-путем, контролирующими пролиферацию клеток и органогенез. В Университете Томаса Джефферсона Б.А. сотрудничал с группой Александра Мазо в нескольких важных проектах, связанных с эпигенетикой. Б.А. обнаружил, что один из ключевых эпигенетических регуляторов, Trithorax принимает непосредственное участие в регуляции гомеозисного гена forkhead. Это был важный шаг вперед, поскольку ранее считалось, что Trithorax вовлечен только в регуляцию классических гомеозисных генов Antennapedia и Bithorax комплексов. B. A. также изучил тонкую структуры регуляторных элементов генов группы Trithorax и Polycomb в гомеозисном гене Ultrabithorax. Было показано, что регуляторные элементы этих двух противоположных, положительных и отрицательных групп эпигенетических регуляторов экспрессии Ultrabithorax состоят из тесно расположенных, но разделенных последовательностей. Эти исследования были опубликованы в журналах высокого профиля «Genes and Development» и молекулярной и клеточной биологии. Помимо этих исследований, группы B.А.Кузина и A.Мазо в течение многих лет сотрудничали над рядом других проектов, и их частые и плодотворные научные дискуссии продолжались до последних дней жизни B. A. До последних дней жизни Борис Александрович жил в научном поиске. В круг его исследований входили проблемы генетического контроля процессов поляризации и морфогенетического движения клеток в развитии многоклеточных организмов. В последние годы Б.А. Кузин исследовал роль эволюционно-консервативного гена, кодирующего диоксиновый/арил-гидрокарбоновый рецептор (АгР) человека в модуляции экспрессии генов, используя гуманизированных дрозофил. Под его руководством велись работы, в результате которых было показано взаимодействие АгР с нуклеотропным шапероном CG5017 в процессе регуляции морфогенеза, формирования долговременной памяти и ответа на оксидативный стресс. Генетические эксперименты, выполненные с использованием слабых мутаций в генах, кодирующих АгР и нуклеотропный шаперон CG5017, показали, что эти мутации делают организм чувствительным даже к низким дозам радиации. Показана возможность коррекции этих нарушений при помощи фармацевтических средств (серотонин).
Слева направо: Одним из последних достижений научной деятельности Б.А. Кузина стало открытие зависимости лиганд-индуцибельной экспрессии целевых генов АгР от эпигенетического статуса их регуляторных районов. Работы по генетике развития были отмечены Премией имени А.О. Ковалевского – за выдающиеся исследования в области биологии развития, общей, сравнительной и экспериментальной эмбриологии беспозвоночных и позвоночных животных. 2009 г. Для многих начинающих и состоявшихся ученых, Борис Александрович был редким примером глубокого отношения к науке и научному поиску, целостности и своеобразия научного взгляда, и смелости в постановке и решении сложнейших биологически задач. В обычной жизни Борис Александрович был чрезвычайно отзывчивым человеком, всегда приходившим на помощь тем, кто в помощи нуждался. © Евгеньев М.Б., Ениколопов Г.Н., Симонова О.Б., Слезингер М.С., Зацепина О.Г., Гапоненко А.К. Кузин Борис Александрович (1945 – 2018) // Специально для Виртуального музея ИБР РАН. 2019 г. Награды
Основные публикации
Патенты
Закрыть |  |
Васецкий Сергей Григорьевич (1935 – 2020) Эмбриолог, цитолог. Получил оригинальные данные по участию цитоскелетных структур в молекулярных механизмах преобразований ооцита амфибий в ходе созревания. Изучил локализацию ряда актинсодержащих белков в созревающих ооцитах шпорцевой лягушки и показал роль протеинкиназных каскадов в регуляции созревания ооцитов. С 1972 по 1981 г. заместитель директора ИБР. Руководил лабораторией экспериментальной эмбриологии ИБР. Многие годы главный редактор журнала «Онтогенез» - единственного в стране профильного журнала по биологии развития. Подробнее... Доктор После обучения на философском факультете и окончания биолого-почвенного факультета МГУ им. М.В. Ломоносова С.Г. Васецкий начинает работать с такими выдающимися советскими учеными-эмбриологами как С.Г. Крыжановский, а затем с 1962 г. с Т.А. Детлаф и А.С. Гинзбург в лаборатории экспериментальной эмбриологии Института морфологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР. С.Н. Нистратова и С.Г. Васецкий на уборке картофеля. Совхоз Руновский.

Сформировавшись как ученый под их руководством, С.Г. Васецкий всю жизнь посвятил изучению основополагающих проблем биологии развития и внес большой вклад в исследование оогенеза низших позвоночных, роли цитоскелета в процессах преобразований ооцита амфибий в ходе созревания, выявление закономерностей мейоза. В 1967 г. С.Г. Васецкий защитил кандидатскую диссертацию на тему "Изучение закономерностей созревания и раннего зародышевого развития осетровых рыб в связи с возможным применением метода термической регуляции пола у рыб", а в 1988 г. — докторскую диссертацию на тему "Мейоз и управление развитием".
Сергей Григорьевич Васецкий c сотрудниками своей лаборатории.
Сергей Григорьевич Васецкий всю жизнь работал в одном институте — сначала Институте морфологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР, а после его разделения — в Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН. Многие годы Сергей Григорьевич возглавлял лабораторию экспериментальной эмбриологии.
Письмо Рене Тома С.Г. Васецкому. 26 августа, 1967.  Уважаемый Сергей,
Уважаемый Сергей,
Я очень рад услышать, что вы собираетесь перевести мою книгу "На пути к теоретической биологии" на русский язык. Я с нетерпением жду, когда она будет опубликована там, и услышу реакцию на нее советских биологов. Боюсь, я не могу прислать вам большую часть текстов Рене Тома на французском языке. Кажется, у меня нет французского текста его комментариев, напечатанного на страницах 32-41. Я думаю, возможно, я отправил ему французский текст, когда представил ему свой английский перевод. Возможно, вы могли бы написать и попросить его об этом, если вы считаете это целесообразным. Его адрес указан в списке в конце книги. Что касается переписки между Томом и мной со страницы 166 и далее, то его письмо на страницах 167-168 было написано по-французски, и я прилагаю его копию. Его более позднее письмо на страницах 176-177 изначально было написано на английском языке, и вопрос о переводе не возникает. Я рад, что вы встретили Кэрри и Ника, когда они снова были в Москве этим летом. Они оба вернулись в Англию несколько дней назад, но мы их еще не видели. Я сам надеюсь увидеть вас и других в Москве на конференции по эмбриологии в следующем году. Искренне Ваш, К.Х. Уоддингтон Письмо Конрада Х. Уоддингтона С.Г. Васецкому. 16 августа, 1968. С 1972 по 1981 г. С.Г. Васецкий являлся заместителем директора Института. На этом посту проявились его незаурядные организаторские способности, что способствовало превращению Института в уникальный современный научный центр. Он являлся одним из инициаторов и организаторов Всесоюзных, а впоследствии Всероссийских Школ по биологии развития, собиравших ведущих специалистов и молодых ученых всей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. С.Г. Васецкий с коллегами в конференц‑зале ИБР.
Организаторские и творческие способности Сергея Григорьевича Васецкого в полной мере проявились и в журнале "Онтогенез". Когда этот журнал, основанный академиком Б.Л. Астауровым в 1970 г., начинает выходить в издательстве "Наука", С.Г. Васецкий становится ответственным секретарем журнала, членом редколлегии, затем заместителем главного редактора, а с 1974 по 2019 г. его главным редактором. Сергей Григорьевич считал журнал главным делом своей жизни, его усилиями журнал стал известен за рубежом как "Russian Journal of Developmental Biology". К написанию обзоров по основным проблемам биологии развития он привлекал ведущих отечественных и зарубежных специалистов, которые, благодаря его высокому авторитету в международной научной среде, активно участвовали в работе журнала.
Слева направо: С.Г. Васецкий, Professor Scott F. Gilbert (Swarthmore College, PA, USA), А.В. Васильев, И.С. Захаров в конференц-зале ИБР РАН. 8.10.2015. (Архив ИБР РАН) С.Г. Васецкий на протяжении многих лет представлял и пропагандировал российскую науку за рубежом. Широкая биологическая эрудиция в сочетании с блестящим знанием английского, а также французского и немецкого языков, способствовали многолетнему участию С.Г. Васецкого в работе Национального комитета советских биологов (в настоящее время — Национальный комитет биологов России), Международного союза биологических наук. Он также многие годы был членом редколлегий международных журналов "Cell Differentiation", "International Journal of Developmental Biology", "Philosophical Transactions of the Royal Society" и "Biology International". 
С.Г. Васецкий Среди специалистов широко известна серия монографий "Проблемы биологии развития", одним из наиболее активных участников этого издания, редактором и инициатором некоторых книг серии был С.Г. Васецкий. Книги серии, написанные ведущими биологами нашей страны, многие годы являются справочным пособием по эмбриологии и цитологии. Нельзя не отметить огромный труд по изданию на русском языке трехтомной монографии всемирно известного американского биолога развития Скотта Ф. Гилберта "Биология развития" (под редакцией С.Г.Васецкого и Т.А.Детлаф), сделавший эту выдающуюся книгу доступной для российского читателя. Многие коллеги с благодарностью будут вспоминать Сергея Григорьевича, его благожелательность, готовность помочь, в том числе с переводом статей на настоящий научный английский, обсудить свои идеи и результаты в контексте мировой науки. © А.В. Васильев, В.Я. Бродский, В.В. Терских, Б.Ф. Гончаров // ОНТОГЕНЕЗ, 2020, том 51, № 6, с. 479-480 Видео:Закрыть |  |
Корочкин Леонид Иванович (1935 – 2006) Эмбриолог, нейрогенетик. Доктор медицинских наук. Исследовал молекулярно-генетические механизмы индивидуального развития; показал роль наследственного биохимического полиморфизма в эволюции и индивидуальном развитии. Основатель и руководитель лаборатории молекулярной биологии развития ИБР. Подробнее...
Корочкин Леонид Иванович Корочкин родился в г. Новокузнецке, окончил с золотой медалью школу в г. Кемерово и поступил на лечебный факультет Томского медицинского института, который окончил с отличием и был оставлен в аспирантуре на кафедре гистологии. Вскоре Леонид Иванович защитил кандидатскую диссертацию, материалы которой были обобщены в монографии. В 1964 г. Леонид Иванович переехал в Новосибирский академгородок, где организовал в Институте цитологии и генетики СО АН СССР группу генетики индивидуального развития, позднее преобразованную в лабораторию. В 1968 г. он защитил докторскую диссертацию. В Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Леонид Иванович проработал четверть века, с 1980 года, когда он создал лабораторию молекулярной биологии развития. Многие из исследований Леонида Ивановича являются пионерскими. Одним из первых в нашей стране он начал использовать гистохимические методы для исследования процессов нейрогенеза; он автор оригинальных работ по изучению роли генетического аппарата клеток в процессах детерминации и дифференцировки; им впервые продемонстрирована периодичность морфогенетической активации ядер в ходе развития коры головного мозга. На другой модели Леонид Иванович исследовал генетическую регуляцию тканеспецифической эстеразы в ходе развития дрозофилы. Им локализован структурный ген эстеразы и выявлена система генов, кодирующих экспрессию этого гена. В лаборатории Леонида Ивановича впервые описан молекулярно-генетический механизм клеточной детерминации. В последние годы Леонидом Ивановичем выполнен ряд приоритетных работ в области изучения стволовых клеток. Он разработал новый метод трансформации этих клеток с использованием регуляторных элементов генома дрозофилы.
Работы Леонида Ивановича широко известны в нашей стране и за рубежом. Он – автор около 500 научных публикаций в отечественной и зарубежной печати, в том числе шести монографий и двух учебников. Леонид Иванович постоянно читал в МГУ курсы лекций по генетике развития и нейрогенетике. Многие его бывшие аспиранты и студенты успешно работают в отечественных институтах и за рубежом. Под его руководством выполнено и защищено 15 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Заслуги Корочкина отмечены Государственной премией РФ и Премией РАН имени Н.К. Кольцова, он избран членом-корреспондентом РАН, академиком РАЕН, академиком Российской медико-технической академии, почетным членом Московского общества генетиков и селекционеров. Он постоянно участвовал в организации научных конференций, был заместителем генерального секретаря Международного генетического конгресса. Л.И. Корочкин являлся членом ряда редколлегий отечественных и зарубежных журналов, а также ученых и научных советов, членом Центрального Совета ВОГиС им. Н.И. Вавилова, членом бюро Научного совета по биологии развития, он был членом редколлегии журнала "Онтогенез" с начала его организации и в работе журнала принимал самое активное участие.
Корочкин Л.И. Леонид Иванович был человеком энциклопедических знаний и обширных научных интересов. Он автор ряда философских трудов, среди которых книги "Христианство и судьбы человечества", "Свет и тьма", "Недогматическое христианское богословие". Известен он и среди деятелей искусства. Будучи не только ученым, но и художником, он принимал участие в знаменитых выставках авангарда на Малой Грузинской, имел ряд персональных выставок, многие его картины представлены в частных коллекциях в нашей стране и за рубежом (США, Франция, Англия, Мальта, Германия). В советский период, когда наша наука из-за административных и идеологических препон была довольно изолирована, Леонид Иванович делал все от него зависящее для установления контактов между учеными и для пропаганды достижений науки нашей страны.
Л.И. Корочкин Вкус к научным дискуссиям, такт и ровный, доброжелательный стиль общения со всеми, независимо от чинов и званий, всегда были яркими чертами его характера. Леонид Иванович был прекрасным человеком, добрым и отзывчивым товарищем для многих из нас. Для всех, кому посчастливилось работать с Леонидом Ивановичем Корочкиным в Институте или других организациях, он останется примером беззаветной преданности главному делу своей жизни – науке. © Озернюк Н.Д., Миташов В.И., Васецкий С.Г. ПАМЯТИ ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА КОРОЧКИНА (16.04.1935-19.08.2006) // ОНТОГЕНЕЗ, 2007, том 38, № 1, с. 67-68 Закрыть |  |
Четвериков Сергей Сергеевич (1880 – 1959) Генетик-эволюционист. Соратник Н.К. Кольцова. Раньше других организовал экспериментальное изучение наследственных свойств естественных популяций, став основоположником современной эволюционной и популяционной генетики. Основной труд "О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики", опубликованный в 1926 году, лег в основу синтетической теории эволюции, определив пути развития мировой биологической науки на многие десятилетия. Руководил отделом генетики Кольцовского Института c 1921 по 1929 год. Подробнее...
Сергей Жизнь Сергея Сергеевича пришлась на суровое время коренных социально-экономических преобразований в России. Сын крупного промышленника, он жил в эпоху социалистической революции. По объему печатной продукции наследие Сергея Сергеевича довольно невелико. Однако по творческому вкладу в науку своего времени — огромно. Несомненно, главная работа Сергея Сергеевича — «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» (1926). Выпускник Московского университета, широко образованный биолог, хорошо знавший и тонко чувствовавший жизнь природных популяций, обладавший обширнейшими познаниями в лепидоптерологии, свободно ориентировавшийся в общеэволюционной проблематике, обладавший подлинно вероятностно-статистическим мышлением, сорокалетний исследователь был полностью подготовлен к тому, чтобы совершить принципиальный прорыв в развитии биологических знаний — перебросить мост между генетикой и теорией эволюции (Тимофеев-Ресовский, Глотов, 1980; Артемьев, Калинина, 1994). В 1905 г. Сергей Сергеевич опубликовал, как он сам говорит, «очерк» — «Волны жизни (Из лепидоптерологических наблюдений за лето 1903 г.)». Это — работа студента Четверикова. На основе размышлений над данными литературы и собственных тонких натуралистических наблюдений Сергей Сергеевич показал огромные колебания численности природных популяций животных — «волны жизни» (wave of life) В. Хэдсона, 1872-1873. Широчайшее распространение в природе «приливов и отливов жизни» — факт. Но почему это имеет место и насколько важно для процесса эволюции? «Один голый факт, без объяснения, без внутреннего смысла, ничего никогда не может ни доказать, ни опровергнуть. А внутреннего смысла приведенного факта мы не знаем» (Четвериков, 1983. С. 82). Причины колебаний численности популяций многообразны. Роль случайных флуктуаций как особенного фактора динамики генетического состава популяции и как фактора эволюции была выделена в явном виде в самом начале 30-х годов Сьюэлом Райтом и независимо Д.Д. Ромашевым и Н.П. Дубининым. Случайные флуктуаций частот аллелей и генотипов обусловлены конечной численностью любой популяции, и их эффекты особенно заметны при низкой численности популяции. Термин «волны жизни» звучит, похоже, слишком романтично; Н.В. Тимофеев-Ресовский попытался преобразовать его в «популяционные волны». Прижился, однако, термин С. Райта «дрейф генов» (см.: Глотов, 1981). В 1910 г. Сергей Сергеевич публикует, как было тогда положено, на немецком языке магистерскую диссертацию «Материалы по анатомии водяного ослика (Asellus aquaticus L.)», на русском языке эта работа появилась только в 1983 г. (Tschetwerikoff, 1910; Четвериков, 1983). Сергей Сергеевич проводит детальное описание хитинового скелета А. aquaticus, постоянно обращаясь к обсуждению возможных физиологических эффектов и эволюционного значения морфологических структур. «Основной фактор эволюции насекомых» (1915) — крупное эволюционное обобщение предыдущей работы. Пятью годами позже эта работа переводится на английский язык (Chetverikov, 1920). История биологии свидетельствует, что широкий взгляд на процесс эволюции определяет кругозор исследователя и является необходимой предпосылкой достижения им существенно новых результатов. В течение ряда лет Сергей Сергеевич под разными названиями читал в Московском университете курс биометрии. Судя по воспоминаниям его учеников, в частности Елены Александровны и Николая Владимировича Тимофеевых-Ресовских, Сергею Сергеевичу удавалось показать слушателям самую сущность вероятностно-статистического мышления (это они усвоили на всю жизнь) и выработать у них аккуратность и тщательность при проведении вычислений и оформлении работы. Математико-статистические знания самого Сергея Сергеевича сформировались, по-видимому, в значительной степени под влиянием его младшего брата Николая Сергеевича, блестящего знатока экономической статистики. Сборник трудов Николая Сергеевича, опубликованный уже после его смерти (Четвериков Н.С., 1975), показывает, насколько глубоким было понимание автором математико-статистических приложений к задачам экономики, понимания особенностей и тонкостей построения математических моделей реальных экономических процессов. Николай Сергеевич хорошо знал и классические работы по прикладной статистике, ему принадлежит сборник переводов работ В. Лексиса, В.И. Борткевича, А.А. Чупрова и Р.К. Бауэра (О теории дисперсии, 1968). В период ренессанса отечественной генетики (после лысенковского погрома 1948 г.) Николай Сергеевич много сделал для медицинской генетики, он перевел классические руководства Дж. Ниля и У. Шэлла «Наследственность человека» (1958) и К. Штерна «Основы генетики человека» (1965). (Поразительно, но в первой из этих книг издательство «забыло» указать имя переводчика! — Карпенко, 1975). Таков был уровень познаний и достижений Сергея Сергеевича к началу 20-х годов XX века, оказавшихся рубежными для отечественной биологии. Первая мировая война, революция, гражданская война вырвали российскую биологию из русла мирового научного развития, где она занимала достойное место. Практически прервались научные связи, обмен научной литературой. А именно в эти годы лидирующее положение в биологии заняла генетика. Благодаря усилиям прежде всего «четырех разбойников» (как, по словам Н.В. Тимофеева-Ресовского, называли Т.Х. Моргана, К.Б. Бриджеса, А. Стертеванта и Г. Меллера) была сформулирована хромосомная теория наследственности. И вот в 1922 г. Герман Меллер приезжает в Советский Союз. Сразу же выявилась и глубина отставания российской биологии в генетике, и появилась реальная возможность освоить достигнутое за рубежом из первых рук (ссылки на литературу см. Глотов, 1981; Бабков, 1985). Это поняли и сделали необходимые выводы лидеры новой биологии — Н.И. Вавилов, Н.К. Кольцов, А.С. Серебровский, Ю.А. Филипченко, С.С. Четвериков. Слова Н.В. Тимофеева-Ресовского: «Сразу же возник вопрос: что делать нам? Попытаться встроиться в зарубежные направления исследований? Они далеко ушли. Догонять? Бессмысленно. Нужно искать свой путь». Они нашли несколько таких путей. Один из них — четвериковский синтез генетики и теории эволюции.
С.С. Четвериков среди сотрудников Кольцовского института (1927 г.)
Предпосылкой будущих успехов Сергея Сергеевича было еще одно важное обстоятельство. В Институте экспериментальной биологии вокруг Н.К. Кольцова и С.С. Четверикова сформировалась группа широко образованных молодых биологов, научная работа для которых была смыслом их жизни: Б.Л. Астауров, Е.И. Балкашина, Н.К. Беляев, С.М. Гершензон, А.Н. Промптов, П.Ф. Рокицкий, Д.Д. Ромашов, Е.А. Тимофеева-Ресовская (Фидлер), Н.В. Тимофеев-Ресовский, С.Р. Царапкин. Сергеем Сергеевичем был создан своеобразный рабочий семинар, получивший шутливое название Coop (совместное оранье). Семинар этот впоследствии ярко описан и самим Сергеем Сергеевичем, и молодыми участниками (Четвериков, 1983; Астауров, 1974; Рокицкий, 1974, 1975). Назову здесь только одну особенность семинара: реферировались интересовавшие участников статьи и монографии вне зависимости от того, на каком языке они были написаны. Н.В. Тимофеев-Ресовский вспоминал, что ему было предложено изложить и проанализировать содержание обширного итальянского зоологического труда: «И никого не интересовало, знаю я итальянский язык или не знаю. На то и образование гимназическое, и умение работать со словарями, и умение выделять существенное. Правда, нас, в отличие от нынешней молодежи, в гимназии учили латыни. А латинский, как известно, — основа многих европейских языков». Начало XX века было отмечено резкими противоречиями между ставшими уже классическими дарвиновскими эволюционными представлениями о роли естественного отбора и представлениями генетиков о роли наследственной изменчивости в эволюции. С.С. Четвериков очень ясно сумел сформулировать эту проблему: «... нередко приходится встречаться со взглядами и мнениями, если и не прямо враждебными генетике, то во всяком случае характеризующими крайне сдержанное и недоверчивое отношение к ней... В чем же причина этого недоверия? Мне думается, что причину этому надо искать в том, что генетика в своих выводах слишком резко и определенно затрагивает некоторые уже давно сложившиеся общие теоретические взгляды, слишком жестко ломает привычные, глубоко гнездящиеся представления, а наша теоретическая мысль неохотно меняет хорошо накатанные колеи привычных логических обобщений на неровную дорогу новых, хотя и более соответствующих нашим современным знаниям, построений. В такое же противоречие с обычными взглядами впала генетика и по отношению к нашим общим эволюционным представлениям, и в этом, несомненно, гнездится причина, почему менделизм был встречен так враждебно со стороны многих выдающихся эволюционистов...». И С.С. Четвериков формулирует основной вопрос, подлежащий исследованию: «Как связать эволюцию с генетикой, как ввести наши современные генетические представления и понятия в круг тех идей, которые охватывают эту основную биологическую проблему?» (Четвериков, 1983. С. 171). С.С. Четвериков обосновывает три основные популяционно-генетические посылки. 1. Мутационный процесс в природных условиях протекает точно так же, как и в условиях лаборатории. Поэтому мы вправе распространять по крайней мере некоторые выводы, полученные в лаборатории, на природные ситуации. 2. Один из таких выводов — непрерывное во времени возникновение новых мутаций у всех видов живых организмов, другой — рецессивность большинства вновь появляющихся мутаций по отношению к аллелям дикого типа, распространенным в природных популяциях. 3. Характернейшей чертой природных популяций является преобладание в них панмиксии, что делает возможным приложение закона Харди-Вайнберга. Из этих посылок с необходимостью следует, что даже в случае отрицательного давления естественного отбора на гомозигот по мутантному гену последний надежно укрыт от действия отбора в гетерозиготе с доминантным аллелем дикого типа. Вследствие же панмиксии в соответствии с соотношениями Харди-Вайнберга редкий мутантный ген будет находиться в гетерозиготном состоянии: для малых значений частоты рецессивного аллеля q всегда q2 « 2pq, поскольку в достаточно большой популяции крайне мала вероятность случайной встречи двух особей, несущих редкий мутантный аллель. Это означает, что даже вредная в гомозиготе рецессивная мутация будет сохраняться в популяции в течение ряда поколений; мутация будет «засосана» популяцией, но «не растворена» в ней. Поэтому за внешней фенотипической однородностью, мономорфизмом популяций должна скрываться их огромная генетическая гетерогенность. «Вид, как губка, впитывает в себя гетерозиготные геновариации [мутации, по современной терминологии], сам оставаясь при этом все время внешне (фенотипически) однородным» (Четвериков, 1983. С. 189). Таким образом, С.С. Четвериков дедуктивным, путем, как это отметил М. Лернер (Lerner, 1961) в предисловии к английскому переводу статьи С.С. Четверикова (Chetverikov, 1961), предсказал генетическую гетерогенность природных популяций. Важно подчеркнуть, что в статье С.С. Четверикова указан путь экспериментальной проверки его теории: гетерогенность популяций будет обнаружена, если провести инбридинг особей, взятых из природных популяций. Поэтому Е.А. и Н.В. Тимофеевы-Ресовские назвали его работу теорией (Timofeeff-Ressovsky, Timofeeff-Ressovsky, 1927). С.С. Четвериков предстает здесь перед нами как генетик и как блестящий представитель Московской школы зоологов. Учениками Сергея Сергеевича тотчас были начаты работы с разными видами дрозофилы. В 1925 г. в окрестностях Звенигородской гидрофизиологической станции под Москвой Б.Л. Астауровым, Е.И. Балкашиной, Н.К. Беляевым, С.М. Гершензоном, Д. Д. Ромашовым проводились сборы разных видов Drosophila: phalerala, transversa, vibrissina, obscura, funebris. Результаты этих опытов были опубликованы лишь десять лет спустя (Gershenson, 1934; Балкашина, Ромашов, 1935). В 1926 г. Е.А. и Н.В. Тимофеевы-Ресовские исследовали Берлинские популяции D. melanogaster (Timofeeff-Ressovsky, Timofeeff-Ressovsky, 1927). В 1926 г. С.М. Гершензон и П.Ф. Рокицкий провели обширные сборы в северо-кавказких популяциях D. melanogaster (Геленджик). В анализе материала участвовали Б.Л. Астауров, Е.И. Балкашина, Н.К. Беляев, С.М. Гершензон, П.Ф. Рокицкий, Д. Д. Ромашов (Рокицкий, 1975). Полностью эти материалы опубликованы не были (Астауров, 1974; Рокицкий, 1974, 1975). Основные результаты исследований, однако, докладывались С.С. Четвериковым в 1927 г. на V Международном генетическом конгрессе в Берлине (Tschetwerikoff, 1928) и на III Всероссийском съезде зоологов, анатомов и гистологов в Ленинграде (Четвериков, 1928). Наконец, в 1929-1931 гг. Е.И. Балкашина и Д. Д. Ромашов провели обширные сборы и генетический анализ D. funebris из разных мест страны (Москва, Киев, Ташкент и др.); эти материалы фрагментарно приведены в работах Д. Д. Ромашова (1931) и Н.П. Дубинина и Д. Д. Ромашова (1932). В 1929 г. Сергеем Сергеевичем был подготовлен английский перевод статьи «О некоторых моментах ...», опубликован этот перевод не был. Но он содержал пятую главу и четыре дополнительных вывода — некоторые итоги работ его учеников по обнаружению генетической гетерогенности природных популяций дрозофил. В.В. Бабковым был опубликован обратный перевод этой главы на русский язык (см.: Четвериков, 1983. С. 219-226). На V Международном генетическом конгрессе С.С. Четвериков делает из полученных данных основной эволюционный вывод: «Все эти факты приводят к заключению, что обычные «дикие» популяции в высшей степени гетерозиготны в самых различных отношениях и поэтому представляют богатый материал наследственных изменений, которые могут быть использованы при изменении среды и поэтому должны играть решающую роль в эволюционном процессе» (Tschetwerikoff, 1928. P. 39). Генетики Европы и Америки были хорошо осведомлены о работах лаборатории С.С. Четверикова. Помимо названных выше публикаций Сергея Сергеевича и его учеников в зарубежных журналах, необходимо отметить систематическое цитирование этих работ Ф.Г. Добржанским и Н.В. Тимофеевым-Ресовским. Полное признание пионерских работ русской популяционно-генетической школы пришло, однако, позже (литературу см.: Глотов, 1981). Сегодня известно, что, помимо четвериковского, существует множество других механизмов, обусловливающих генетическую гетерогенность природных популяций: широкое распространение полудоминантных мутаций с варьирующими пенетрантностью и экспрессивностью (С.М. Гершензон); большая приспособленность гетерозигот по сравнению с обеими гомозиготами (Ф.Г. Добржанский); отбор, зависящий от частоты аллеля (К. Пти, Л. Эрман); изменения вектора отбора во времени (Н.В. Тимофеев-Ресовский, С.М. Гершензон); внутрипопуляционная гетерогенность среды (В. Людвиг) и др. Сегодня мы можем сказать, что из природных популяций удается выделить все типы мутаций, какие только ищут. Это — любые морфологические, физиологические, биохимические, вообще любые генные, хромосомные и геномные мутации. Таким образом, представление о генетической гетерогенности природных популяций имеет сегодня силу «эмпирического обобщения» (В.И. Вернадский). Классическая работа С.С. Четверикова (1926) инициировала целенаправленные исследования природных популяций. Поэтому Сергей Сергеевич Четвериков — основоположник экспериментальной популяционной генетики. В 1929 г. Сергей Сергеевич был ложно обвинен в антисоветской деятельности, выслан в Свердловск, затем во Владимир. В 1935 г. он переехал в Горький, где многие годы заведовал кафедрой генетики и был деканом биологического факультета университета.
С.С. Четвериков с группой преподавателей Биологического факультета Горьковского университета. Сидят (слева направо) - И.И. Пузанов, С.С. Станков, Л.И. Курсанов, С.С. Четвериков, А.Д. Некрасов; стоят - Малиновский, Н.П. Красинский, В.В. Попов, А.Н. Чернявский, П.А. Суворов. На кафедре проводились разнообразные генетические исследования, особенно обширным и успешным был цикл работ по выведению моновольтинной расы китайского дубового шелкопряда. Однако блестящий взлет 20-х годов остался далеко позади. В 1948 г. «вейсманиста-морганиста» профессора С.С. Четверикова отправили на пенсию. Сергей Сергеевич доживал свой век с братом Николаем Сергеевичем. По мере возможности о нем заботились друзья разных поколений. Недавно опубликованная переписка Сергея Сергеевича с профессором-химиком А. А. Бунделем поражает глубиной знаний Сергея Сергеевича о его любимых бабочках (С.С. Четвериков, 2002; см. также Четвериков, 1984). В 1959 г. он продиктовал студенту В.Н. Сойферу примечания к свой знаменитой работе (Четвериков, 1965). Светлым лучом стало для Сергея Сергеевича присуждение Германской Академией естествоиспытателей «Леопольдина» Дарвиновской плакетты в связи со 100-летием публикации «Происхождения видов» (Сойфер, 1993; Четвериков, 2002; Никоро, 2005).
Мемориальная доска на здании Университета имени Лобачевского. Ученики С.С. Четверикова, прежде всего участники Соора, сделали за свою научную жизнь очень много. По-разному сложились их судьбы в ту суровую, если не сказать жестокую, эпоху. Одним удалось оставить после себя отдельные блестящие работы, другим — создать свои, новые направления исследований (Глотов, 1981; Бабков 1985; Захаров, 2003).
Могила 2 июля 1959 г. С.С. Четвериков ушёл из жизни. Похоронен Сергей Сергеевич Четвериков в Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище. Кто-то сказал, что большой Учитель — не всегда большой Ученый, но большой Ученый — всегда большой Учитель. Это — о Сергее Сергеевиче Четверикове. Литература
Награды
Память
Закрыть |  |
Насонов Дмитрий Николаевич (1895 – 1957) Цитофизиолог. Доказал единство структурных и функциональных изменений при парабиозе. Показал участие аппарата Гольджи в процессах секреции клетки. На основе представления о градуальности возбуждения разработал теорию проведения нервного импульса. Член-корреспондент АН СССР (1943). Академик АМН СССР (1945). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943). В сороковых годах руководил лабораторией общей физиологии Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР. Подробнее...
Академик Родился 28.06.1895, г. Варшава, умер 21.12.1957, г. Ленинград, похоронен на мемориальном кладбище «Литераторские мостки», выдающийся биолог, создатель нового направления в цитологии. Под руководством профессора А.С. Догеля окончил в 1919 г. 1-й Петроградский государственный университет с золотой медалью и был зачислен ассистентом по кафедре гистологии и анатомии. За работы, посвященные аппарату Гольджи, получил Рокфеллеровскую стипендию и был командирован в 1926 г. в Колумбийский университет (г. Нью-Йорк), где в течение года проработал в лаборатории выдающегося цитолога Вильсона (Edmund Beecher Wilson), известного своими работами по клеточным механизмам наследственности. В 1932 г., по приглашению А.А. Заварзина, возглавил лабораторию цитологии во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ). В 1935 г. были присвоены степень доктора биологических наук без защиты диссертации и звание профессора. В этом же году, по предложению академика А.А. Ухтомского, возглавил второй коллектив – лабораторию физиологии клетки Физиологического института Ленинградского университета.
Д.Н. Насонов В 1941 году добровольцем ушёл на фронт, служил нач. медсанбата на Пулковских высотах, был ранен и демобилизован. С января 1943 по сентябрь 1944 г. был профессором кафедры гистологии Московского университета и руководил лабораторией общей физиологии в Институте цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР. В 1943 г. избран членом-корреспондентом АН СССР и в этом же году (совместно с В.Я. Александровым) стал лауреатом Государственной премии СССР за монографию «Реакция живого вещества на внешние воздействия». В сентябре 1944 г. вернулся в Ленинградский университет и восстановил свою лабораторию. В 1945 г. организовал кафедру общей и сравнительной физиологии и возглавил Отдел общей морфологии ВИЭМа. В этом же году избран действительным членом Академии медицинских наук. С 1948 по 1950 г. был директором ВИЭМа. В 1951 г. возглавил лабораторию общей и клеточной физиологии при Зоологическом институте. ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НАСОНОВ Трошин А.С., Трошина В.П. Л.: Наука, 1984. 101 с. В 1957 г. основал и возглавил Институт цитологии АН СССР, руководил работой лаборатории физиологии клетки, организованной в составе Института. В 20-х годах начала складываться цитофизиологическая школа Д.Н. Насонова. Создается ряд оригинальных научных концепций: учение о «паранекрозе», денатурационная теория повреждения и возбуждения, сорбционная теория распределения веществ между клеткой и средой, фазовая теория биопотенциалов, градуальная теория распространения возбуждения. Эти представления, за исключением двух последних теорий, были основаны на исследовании фундаментального биологического явления – неспецифической реакции клетки на внешние воздействия. Роль сорбционных процессов в клеточной физиологии исследуется и за рубежом (наиболее заметным автором этого направления является Г. Линг). Автор 117 научных работ, в том числе двух монографий. Участник Первой мировой и Великой Отечественной войн. За трудовую деятельность и военные заслуги награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Литература
© Матвеев В.В. // НАСОНОВ Дмитрий Николаевич http://bioparadigma.narod.ru/nasonov.htm Закрыть |  |
Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович (1900 – 1981) Генетик, ученик и сотрудник Н.К. Кольцова. Доктор биологических наук, профессор. Создал первую биофизическую модель структуры гена, сформулировал и обосновал фундаментальные положения современной генетики развития, популяционной генетики и теории эволюции, является одним из основателей современной радиационной генетики и радиационной экологии. Подробнее...
Доктор биологических наук, профессор, 20 сентября 2000 г. (7 сентября по старому стилю) исполнилось сто лет со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского — одного из крупнейших ученых XX века, мирового авторитета, великолепного исследователя, несравненного педагога, титанической личности и благороднейшего человека. Н.В.Тимофеев-Ресовский вместе со своим учителем С.С.Четвериковым положил начало экспериментальной генетике популяций и учению о микроэволюции. Вместе с Г.Дж.Мёллером он стал сооснователем радиационной генетики. Он внес решающий вклад в основание феногенетики, важной части биологии развития. Развивая идеи своего учителя Н.К.Кольцова о хромосоме как макромолекуле и о матричном принципе ее воспроизведения, он сформулировал принцип ковариантной редупликации, принципы мишени и попадания в радиобиологии. Совместно с физиками К.Г.Циммером и М.Дельбрюком он дал оценку размеров гена и показал возможность трактовки гена с позиций квантовой механики и тем самым заложил фундамент для открытия структуры ДНК и создания всей современной молекулярной биологии. Объединив свои натуралистические и экспериментальные интересы (и развивая традиции В.И.Вернадского и В.Н.Сукачева), Н.В.Тимофеев-Ресовский заложил основы радиационной биогеоценологии — науки эры Чернобыля. Н.В.Тимофеев-Ресовский был избран научным членом Общества содействия наукам кайзера Вильгельма (ныне Макса Планка), почетным членом Итальянского общества экспериментальной биологии, членом Германской Академии натуралистов Леопольдина, почетным иностранным членом Менделевского общества в Лунде, Британского генетического общества в Лидсе, Национальной Академии наук и искусств в Бостоне. В СССР он был членом МОИП, ВОГиС, Географического и Ботанического обществ. В 1960-е годы он выдвигался в члены-корреспонденты АН СССР, но его кандидатура не была допущена к выборам. Среди научных наград — медаль Ладзаро Спалланцани (1940), Дарвиновская плакета Академии Леопольдина (1959), Менделевская медаль ЧСАН (1965), Кимберовская премия и Золотая медаль за выдающийся вклад в генетику НАН США (1966), медаль Грегора Менделя Академии Леопольдина (1970). По решению 30-й Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО вместе с Россией весь мир в Год Иоганна Себастьяна Баха отмечает столетие Н.В.Тимофеева-Ресовского, а вместе с ним и юбилеи Софьи Ковалевской и Владимира Даля. Ранние годы В ранний период жизни Н.В.Тимофеева-Ресовского сложилась его система нравственных и познавательных ориентиров; в зрелые годы, 1925-45-е гг., он реализовывал свой мощный научный потенциал; после 10-летнего заключения он подводил итог своим исследованиям, выдвигал новые научные задачи и воспитал несколько научных поколений. Отец, Владимир Викторович, был инженером путей сообщения. Мать, Надежда Николаевна, была урожденной Всеволожской. Любовь к природе у Н.В.Тимофеева-Ресовского возникла в родовом имении Всеволожских в Калужской губернии. Лет с 13 он бродил с ружьем, собирая птиц для Зоомузея и наблюдая изменчивость пресноводных рыб. На ранние годы Н.В.Тимофеева-Ресовского пришелся расцвет русских гимназий. Он учился в лучших из них. В Киеве, где было управление отца, строившего свою последнюю железную дорогу Одесса — Бахмач, Н.В.Тимофеев-Ресовский был в Императорской Александровской I гимназии. Среди ее выпускников были Михаил Булгаков, Константин Паустовский и другие значительные для русской культуры люди. После смерти отца семья вернулась в Москву, и с начала 1914 г. он учился в другой превосходной гимназии — Флеровской, из которой также вышло немало замечательных людей. В традиции русских гимназий были кружки, куда приглашали докладчиков (о математической логике, например, рассказывал Н.Н.Лузин, глава московской математической школы), где обсуждали вопросы истории культуры, новой физики и т.п., устраивали театральные постановки. Традицию кружков Н.В.Тимофеев-Ресовский пронес через всю жизнь. В 1917 г. Н.В.Тимофеев-Ресовский записался в Московский университет, в недолгий период самого свободного его существования. Там были выдающиеся профессора: зоологи М.А.Мензбир, А.Н.Северцов, Б.С.Матвеев, Г.А.Кожевников, геолог А.П.Павлов, палеонтолог М.В.Павлова. Но основными учителями его стали Н.К.Кольцов и С.С.Четвериков. Н.В.Тимофеев-Ресовский прошел знаменитый Большой зоологический практикум Кольцова (летние семестры проходили на Звенигородской гидробиологической станции С.Н.Скадовского), курсы биометрии и генетики Четверикова. Интересы Н.В.Тимофеева-Ресовского были разнообразны. Он участвовал в столовании патриарха в Кремлевских палатах в 1917-1918 гг.; воевал в кавалерии на германском и на деникинском фронтах; работал грузчиком; пел и в церковном, и в красноармейском хоре; он преподавал везде, где только можно. Будучи студентом и зарабатывая на жизнь, он одновременно был научным сотрудником одного из лучших биологических учреждений XX века, Института экспериментальной биологии Н.К.Кольцова. Повидав Европу и Америку, Н.В.Тимофеев-Ресовский вспоминал, что такой замечательной биологии, как у Кольцова, он больше никогда и нигде не встречал. В 1923-1925 гг. Четвериков с группой молодых сотрудников провел первое исследование мутаций в диких популяциях дрозофил. Оно дало основу для объединения генетики и дарвинизма и положило начало экспериментальной генетике популяций. А еще осенью 1921 г. Кольцов поручил двум ближайшим друзьям — Н.В.Тимофееву-Ресовскому и Д.Д.Ромашову — получить мутации у дрозофил Х-лучами. Здесь истоки его интереса к радиомутациям. Н.В. Тимофеев-Ресовский на Звенигородской опытной станции.
Н.В.Тимофеев-Ресовский нередко повторял, что к 25 годам каждый человек уже понимает, на что он способен и что сможет сделать в жизни. Действительно, основа всех его достижений была заложена в этот период. В 1922 г. Н.В.Тимофеев-Ресовский женился на Елене Александровне Фидлер (ее родители были преподавателями; родственники основали знаменитую Фидлеровскую гимназию, другие родственники основали не менее знаменитую аптеку Ферейна; Фидлеры через московских Фогтов были в отдаленном родстве с Иммануилом Кантом). Они начали вместе у Кольцова и Четверикова и трудились рука об руку полвека. Впоследствии Н.В.Тимофеев-Ресовский говорил, что ему в жизни вообще везло, но особенно крупных везений было два: что его учителем стал великий Кольцов, а женой — Елена Александровна. Когда в 1924 г. чистки студентов и другие гонения на университет затронули звенигородскую группу и четвериковскую лабораторию, то благородные реакции Н.В.Тимофеева-Ресовского сделали его легкой мишенью тогдашних "хунвейбинов". Но в начале 1925 г. Оскар Фогт открыл в Москве филиал своего берлинского Института мозга, специально для исследования мозга В.И.Ленина (на которого Фогт был поразительно похож). Среди интересов Фогта был и социализм, и природная изменчивость шмелей (он собрал большую коллекцию со всего мира). Он интересовался и новой наукой генетикой (о которой имел смутное представление). Познакомившись с генетиками ИЭБ, он пожелал открыть Генетический отдел в своем институте. Фогт просил Кольцова рекомендовать одного из своих учеников, и в мае 1925 г. Н.В.Тимофеев-Ресовский с женой и сыном уехал в Берлин. Германский период В 20-летний германский период (научный сотрудник, в 1929-1936 гг. — заведующий Отделением генетики Института мозга Общества кайзера Вильгельма, в 1937-1945 гг. — глава самостоятельного Отделения генетики ОКВ) Тимофеев-Ресовский последовательно реализовывал потенциал, накопленный в предыдущее десятилетие. Он занимался разработкой и классификацией явлений феногенетики, генетики популяций, микроэволюции, зоогеографии, радиационной генетики, биофизики. Он получал ценные экспериментальные данные, оформлял общие принципы и печатал основополагающие работы в этих областях.
В Берлин-Бухе Берлин был тогда одним из центров русской культуры. Тимофеевы-Ресовские общались с множеством интересных людей из России и эмиграции, как и из Европы. Среди них художники В.А.Ватагин, Л.О.Пастернак, О.А.Цингер, С.И.Мамонтов, руководитель хора донских казаков Сергей Жаров, пианисты В.Топилин, А.Шнабель, А.Б.Микельанджело, философы С.Л.Франк, Н.А.Бердяев, филолог и евразиец князь Н.С.Трубецкой и многие другие. Весной 1927 г. Н.В. и Е.А.Тимофеевы-Ресовские встречались с Н.К.Кольцовым и В.И.Вернадским на Неделе русской науки, осенью — с С.С.Четвериковым и Н.И.Вавиловым на V Конгрессе по генетике. В январе 1929 г. они участвовали в Съезде по генетике в Ленинграде заочно, так как Кольцов не позволил им приехать в СССР во время атак на ИЭБ и ареста С.С.Четверикова. (Елизавета Ивановна Балкашина писала своей подруге по Генетическому отделению Е.А.Тимофеевой-Ресовской: "Конечно, приезжайте, но берите побольше теплых вещей, а то обещают холодную зиму в Сибири"). После 1930 г. Н.В.Тимофеев-Ресовский не числился в штате ИЭБ, и его работы не печатались в СССР. В 1933 г. Кольцов не позволил им вернуться, но до 1937 г. командировка продлевалась, а переписка и обмен оттисками работ продолжались до лета 1941 г. Первая работа Е.А. и Н.В.Тимофеевых-Ресовских по экспериментальной генетике популяций (1927) доказала наличие леталей в процветающей дикой популяции дрозофил; этим была поставлена проблема изменчивости по приспособленности и указан смысл изучения генетического груза. В 1935 и 1936 гг. Тимофеев-Ресовский опубликовал основополагающие работы, посвященные выявленным им малым мутациям жизнеспособности; до сих пор генетики-популяционисты спорят о том, принадлежит ли решающая роль в определении жизнеспособности популяции большим (в том числе леталям), или малым мутациям жизнеспособности. Общая схема проявления гена, построенная Тимофеевым-Ресовским в серии работ 1925 – 1934 гг., "стабилизировала концепцию взаимодействия генов" (как писал Fothergill в эволюционной сводке 1952 г.). В работе 1929 г. по рентгеномутациям у дрозофилы Тимофеев-Ресовский впервые получил обратные мутации — результат настолько поразительный, что доклад на эту тему был затребован на пленарное заседание VI Конгресса по генетике в США в 1932 г. (где Н.И.Вавилов посоветовал ему не возвращаться в СССР). Более 80 публикаций по индуцированному мутагенезу за 1925-1945 гг., посвященных выяснению количественных закономерностей образования точковых мутаций у дрозофил под действием радиации (зависимость от дозы, от распределения ее во времени, от типа излучений и пр.) сделали Тимофеева-Ресовского (вместе с Мёллером) основателем радиационной генетики (его термин). Н.В.Тимофеев-Ресовский исследовал сравнительную жизнеспособность и ареалы активности различных видов дрозофилы; адаптационный полиморфизм адалий. В 1926-1945 гг. он провел исследование географической изменчивости другой божьей коровки, эпиляхны. В 1936 – 1943 гг. он разработал представления об элементарном материале, структуре и факторах процесса микроэволюции (его термин) и о соотношении между микро- и макроэволюцией. На материале радиомутаций он сформулировал принцип усилителя в биологии, который в поздней формулировке охватывал роль дискретностей в живой природе, включая эффект естественного отбора. Елена Александровна постоянно работала вместе с мужем. Оплачиваемая работа родственников руководителя Отделения в том же отделении запрещалась правилами Общества кайзера Вильгельма, и она не получала жалования. В 1937 г. Николай Владимирович отклонил весьма лестное предложение фонда Рокфеллера возглавить лабораторию в Институте Карнеги, так как в этом случае он окончательно терял надежду вернуться на родину. В начале 1937 г. Кольцов дважды предостерег его от приезда в СССР письмом через шведских дипломатов и через Мёллера, уехавшего из СССР в Испанию. В мае 1937 г. (два его брата были уже арестованы, а впоследствии расстреляны) он стал невозвращенцем без подданства. С 1937 г. его Отделение генетики подчинялось непосредственно Обществу содействия наукам кайзера Вильгельма. В исключительных случаях это было возможно, когда во главе такого отделения стояла значительная личность, поставившая совершенно новую проблему на стыке наук, и тогда ей давали возможность свободной работы. Отделение генетики получало поддержку от неправительственной Академии ОКВ, фонда Рокфеллера, акционерного общества Ауэр (научный директор Ауэр Николаус Риль предоставил ему для генетических опытов мощный генератор быстрых нейтронов). Н.В.Тимофеев-Ресовский пользовался большим уважением и популярностью, и даже ученые, увлекавшиеся Гитлером, окружали его защитой. "Немецкие сотрудники института смотрят на этого странного и темпераментного русского с умилением и искренним восхищением. Они даже дают ему такую свободу слова и мнений, какую не позволили бы ни одному другому человеку", — вспоминал в 1942 г. американский генетик Таге Эллинджер о визите в Берлин в конце 1939 года. В свою очередь, Тимофеев-Ресовский защищал беглых военнопленных, остарбайтеров, евреев и всех нуждавшихся в защите. Старший сын Димитрий был арестован гестапо весной 1943 г. за участие в подпольной организации "Берлинский комитет ВКП(б)", когда он готовил террористический акт против генерала Власова и Розенберга. Тимофеев-Ресовский в жестких выражениях отверг предложение возглавить программу стерилизации славян радиацией в обмен на жизнь сына; тот немедленно был отправлен в лагерь Маутхаузен, где организовал новую подпольную группу, был переведен в самый жестокий филиал лагеря, команду Эбензее и был там расстрелян 1 мая 1945 г. В апреле 1945 г. Красная Армия заняла Бух (и в местном отделении гестапо были найдены бумаги на арест Тимофеева-Ресовского и всех его сотрудников). Советская военная администрация назначила Н.В.Тимофеева-Ресовского директором Института генетики и биофизики (позже Медико-биологический институт СВАГ, который возглавляла в отсутствие мужа Е.А.Тимофеева-Ресовская); среди публикаций этого времени 1-й из трех томов по основаниям биофизики "Принцип попадания в биологии" (1947 г., с К.Г.Циммером). Впоследствии Н.В.Тимофеев-Ресовский отмечал два великих человеческих подвига в войне: победу Красной и союзнических армий над гитлеризмом, и движение Сопротивления в Европе. Строитель мостов Тимофеев-Ресовский систематически объединял усилия биологов и физиков для решения проблем биологии. Продолжая русскую традицию кружков, он организовал биофизический семинар для развития идей Кольцова о матричном принципе с использованием современных средств исследования (и дополнил его принципом конвариантной редупликации для учета мутаций). Одним из результатов содружества с физиками была работа 1935 г. с К.Г.Циммером и М.Дельбрюком "О природе генных мутаций и структуре гена", известная как "работа трех мужчин" или "TZD", где сформулирован принцип попадания и принцип мишени. В остроумном опыте Николай Владимирович дал оценку размеров гена. Было показано, что индуцированные Х-лучами мутации зависят от изменения одной или немногих молекул — сенсационный результат; из-за него даже было основано Немецкое биофизическое общество под руководством Бориса Раевского и Николауса Риля. Впервые устойчивость "генной молекулы" выводилась из квантово-механических соображений. Эта мысль TZD в изложении Э.Шредингера (1944 г., а в переводе, изданном в 1947 г. под названием "Что такое жизнь с точки зрения физики?") привлекла в послевоенные годы ряд физиков к проблемам будущей молекулярной биологии. Н.В.Тимофеев-Ресовский участвовал в семинарах Нильса Бора; вместе с Борисом Эфрусси он организовал семинары биологов и заинтересованных физиков при финансовой поддержке фонда Рокфеллера. Генетики и кристаллографы, впоследствии внесшие решающий вклад в открытие структуры "двойной спирали", впервые совместно обсуждали химическую природу хромосомы и гена на этом семинаре в Клампенборге в апреле 1938 г. В Советском Союзе Тимофеев-Ресовский последовательно занимался восстановлением прерванной научной традиции. С 1956 г. он проводил в Миассово, затем на Можайском море летние школы с лекциями о запретных в то время генетике, кибернетике, теории эволюции, мало известных радиобиологии и учении о биосфере. Издавал новые варианты работ 1920-1940-х годов. Блестящий лектор, он читал лекции везде, где представлялась возможность. Н.В.Тимофеев-Ресовский учил притчами и поступками — как все великие учителя. Он владел даром знать о каждой вещи самое главное, а не массу утомляющих подробностей, и невозможно переоценить его воздействие на три или четыре научных поколения. Защитник Из работ по радиационной генетике Тимофеев-Ресовский извлек уроки, которыми щедро делился. Именно он в начале 1930-х годов впервые предложил использовать свинцовые фартуки для защиты врачей-рентгенологов. Благодаря знанию биологического действия радиации, он первым задолго до Хиросимы призывал научное сообщество заняться разработкой способов защиты населения от радиации. Важной чертой работ Н.В.Тимофеева-Ресовского было то, что в них обращалось внимание на отдаленные последствия радиации, тогда как и в 1930-е годы, и позже других биологов и врачей (в том числе в американском госпитале в Хиросиме) интересовал исключительно непосредственный эффект радиации — военное, а не медицинское значение ядерных взрывов. Показательно, что академик А.Д. Сахаров обратился к проблемам защиты биосферы и человечества и выступил за запрещение испытаний атомного оружия в ответ на лекцию Тимофеева-Ресовского, которая произвела на него впечатление. Н.В.Тимофеев-Ресовский всегда защищал каждого человека, нуждающегося в помощи. В 1986 г. Элли Вельт, жена Петера Вельта, спасенного Тимофеевым-Ресовским в годы войны полуеврея, напечатала об этих событиях роман "Berlin Wild" (что можно перевести как "Берлинская дикая" линия дрозофил, а можно как "Берлин дикий"). Лутц Розенкётер, одноклассник Андрея, младшего сына Николая Владимировича, устроил в Берлине и оплатил ему сложные операции (все трое, Николай Владимирович, Елена Александровна и Андрей облучились в ходе работ 1950-х годов). Он не хотел слышать слов благодарности и возражал, что сделанное им — ничто по сравнению со спасением его жизни Тимофеевым-Ресовским. Профессор С.Н.Варшавский, его жена и Лукьянченко, сбежавшие с принудительных работ, отправились к нему, зная, что "русский профессор Тимофеев всех спасает". Польской девушке была дана фальшивая справка о немецком подданстве; русские и французские военнопленные находили у него приют... Спасением беглых военнопленных, остарбайтеров, неарийцев занимались вместе с ним, конечно, многие люди, но Тимофеев-Ресовский (памятуя о расправе над С.С.Четвериковым из-за дискуссионного кружка "Соор") категорически возражал против их оформления в организацию, которую легко разоблачить и разгромить всю сразу. От проекта организации остался лишь пароль: такты "Революционного этюда" Ф.Шопена. Возвращение
Москва, В сентябре 1945 г. Н.В.Тимофеев-Ресовский был по доносу, сделанному заезжим советским ученым, тайно арестован и отправлен в Москву. На следствии (документы следственного дела представлены в "Вестнике РАН", 2000, № 3) и в тюрьме ("Архипелаг ГУЛАГ" А.И.Солженицына) он держался в высшей степени достойно. Он получил 10 лет заключения и 5 лет поражения в правах и был отправлен в Карагандинский лагерь — известный своими жестокостями Карлаг, где был близок к смерти. Но тогда Фредерик Жолио-Кюри (не только Нобелевский лауреат, но и один из руководителей Сопротивления в Европе) посетил Москву и убедил Л.П.Берия, что необходимо предоставить работу гениальному ученому Н.В.Тимофееву-Ресовскому. Он был отправлен на излечение от пеллагры (большие дозы сильных лекарств привели к отслойке сетчатки, и он потерял центральное зрение) и затем — в секретный институт. В 1947-1955 гг. Тимофеев-Ресовский руководил Биофизическим отделением лаборатории "Б" в Сунгуле на Урале (ныне поселок Сунгуль административно входит в Снежиск — Челябинск-70); туда были привезены его жена с младшим сыном и некоторые берлинские коллеги. Тимофеев-Ресовский был освобожден в 1955 г. и столкнулся с новой реальностью, какой он не знал ни в ленинской России, ни в веймарской и гитлеровской Германии, ни на предприятии п/я 2015 системы Минсредмаша: чудовищная бюрократия, уничтожение рациональных методов хозяйствования, тяготы быта, пониженный уровень культуры тех, с кем доводилось общаться, послушные посредственности и беспринципные карьеристы. Мировая знаменитость, он не мог получить работу ни в одной из столиц; заграничные друзья и коллеги к нему не допускались, ему не позволялось выезжать за границу даже для получения научных наград; а в 1978 г. советским участникам XIV Конгресса по генетике в Москве было рекомендовано не общаться с ним. Но сила духа позволила ему сохранять достоинство и величие. Наука эры Чернобыля После 1945 г. Н.В.Тимофеев-Ресовский не имел возможности даже следить за прогрессом молекулярной биологии, но не испытывал дискомфорта: расставив вехи для будущих исследователей в одной области, он переносил свое внимание на другую, в тот момент более важную. В 1955 г., когда лаборатория "Б" была ликвидирована, Николай Владимирович организовал лабораторию биофизики в Свердловске с биостанцией на Большом Миассовом озере в Ильменском заповеднике. Изучая с 1930- х годов накопление ряда элементов различными организмами методом меченых атомов, ссылаясь на идеи В.И.Вернадского и В.Н.Сукачева, он поставил теперь задачу скорейшего и полного изучения всех вопросов, связанных с возможным воздействием атомной промышленности на человека и биосферу. В сентябре 1957 г. близ Кыштыма, недалеко от Миассово, из-за неправильного хранения (о чем Н.В.Тимофеев-Ресовский предупреждал) взорвалась "банка" — резервуар радиоактивных отходов*. Эта авария известна как "малый уральский Чернобыль". Тимофеев-Ресовский предложил использовать "плевок", гигантскую загрязненную зону, в качестве полигона для комплексных исследований последствий радиоактивного заражения, как он уже использовал ограниченные зоны постоянного сброса радиоактивных отходов. Он составил проект открытых и комплексных исследований. Его проект получил высокую поддержку. Но к 1959 г. был принят ряд урезанных проектов, и их недостатки стали очевидными при ликвидации последствий аварии 1986 г. на АЭС в Чернобыле. 30-й том "Трудов Института биологии" УФАН составила монография Елены Александровны Тимофеевой-Ресовской "Распределение радиоизотопов по основным компонентам пресноводных изотопов" (переведена на английский язык и выпущена в США), защищенная в 1962 г. как кандидатская диссертация, хотя заслуживает неизмеримо более высокой оценки. Елена Александровна послала Е.И.Балкашиной монографию с дарственной надписью: "Дорогой Лиле, моей подруге. Только ты помогла мне закончить университет, а отсюда и эта работа. Твоя Лёля". Николай Владимирович не запасся документом об окончании университета, и на протяжении семи лет попытки ряда ученых учреждений присудить ему докторскую степень не приносили результата. В начале 1963 г., после ряда перипетий Николай Владиимрович защитил докторскую диссертацию "Некоторые проблемы радиационной биогеоценологии", которая была утверждена ВАК только после падения Т.Д.Лысенко в октябре 1964 г. Вскоре лаборатория Н.В.Тимофеева-Ресовского была расколота и прекратила существование. В 1964 г. он организовал и возглавил Отдел общей радиобиологии и радиационной генетики (пять лабораторий) при Институте медицинской радиологии в Обнинске, где расположена первая в стране и в мире АЭС. Тогда он также публиковал новые варианты монографий 1930-1940-х годов, восстанавливая прерванную научную традицию. Самодостаточность и абсолютная свобода Н.В.Тимофеева-Ресовского, личности титанической, были "костью в горле" у многих партийных чиновников в Свердловске, Обнинске, Калуге и Москве. Н.В.Тимофеев-Ресовский открыто сравнивал вольную жизнь 1920-х и зажатую жизнь "оттепели"
Н.В. Тимофеев-Ресовский 1960-х; он обсуждал венгерские события 1956 г., искал в последствиях выброса радиации 1957 г. материал для определения задач исследований, — когда все эти темы не полагалось упоминать вслух. Н.В.Тимофеев-Ресовский четко называл последствия введения сверху демократии в стране, где народ не имеет никакой привычки к демократии: он говорил о том, что тогда сразу же вылезут наверх все демагогические подонки, что Россия будет разграблена, раздроблена и превращена в колонии, — когда перестройка еще не предвиделась. К 1969 г. выяснилось, что в Обнинске ни комсомол, ни другие организации не занимаются воспитанием молодежи, — никто, кроме "профессора Тимофеева-Ресовского, который работал в гитлеровском логове": вокруг него собрался кружок молодежи с докладами о музыке. (Осенью лекторы ЦК сообщили об этом в официальной версии "Пражской весны" на крупнейших заводах в Москве, Свердловске и других городах.) Летом 1969 г. новое партийное руководство Обнинска отправило Николая Владимировича на пенсию. Н.В. Тимофеев-Ресовский и А.В. Яблоков в конференц-зале ИБР.1976 г. Елена Александровна, проработавшая с ним 47 лет, ушла из института ("это большая трагедия для Николая Владимировича, — писала она, — но не горе. А горе у нас одно — потеря старшего сына").
Тимофеев-Ресовский Н.В., Макс Дельбрюк, получивший в декабре 1969 г. Нобелевскую премию, посетил Москву с рассказами о научном вкладе своего учителя, и в начале 1970 г. Николай Владимирович был принят в Институт медико-биологических проблем. В новой области, космической биологии и медицине, Тимофеев-Ресовский поставил ряд вопросов, которые он впервые четко назвал в лекции через две недели после полета Юрия Гагарина. Это вопросы: о поправках для повреждающего действия ионизирующих излучений в космическом полете, о принципах замкнутых экосистем и мере их надежности, о комбинированном влиянии магнитных полей, радиации, невесомости, световых ритмов на человека при длительном полете. Все они были разрешены сотрудниками ИМБП. Елена Александровна умерла на Пасху 1973 г. (партийное начальство запретило ее бывшим сотрудникам участвовать в похоронах. Тогда лишь приезд академика и генерала О.Г. Газенко, директора ИМБП, позволил обнинским начальникам избежать позора). Николай Владимирович пережил ее на восемь лет и умер 28 марта 1981 г. 
Н.В. Тимофеев-Ресовский 1976 г. (Фотоархив ИБР РАН) 
В 1986 году о Н.В.Тимофееве-Ресовском был напечатан роман "Berlin Wild" Элли Вельт, жены спасенного им в войну Петера Вельта. Объявленная М.С.Горбачевым эпоха гласности началась в 1987 г. с повести "Зубр" Д.Гранина (который еще в романе "Иду на грозу" одарил наиболее привлекательного героя рядом черт и словечек Н.В.Тимофеева-Ресовского). В 1988-1991 гг. на кино- и телеэкраны страны вышла "Кинотрилогия о Зубре" Е.Саканян. Начиная съемки в 1987 г., она инициировала процесс реабилитации. Планировался один фильм, но реабилитация наткнулась на чудовищное сопротивление чрезвычайно влиятельных тайных сил. Поэтому пришлось снимать второй и третий фильмы, а в ходе съемок Е.Саканян провела независимое расследование (о процессе реабилитации см. ее очерк "Любовь и защита" во 2-м издании устных воспоминаний Н.В.Тимофеева-Ресовского). Юридическая реабилитация великого ученого состоялась 29 июня 1992 г. * * *
Тимофеев-Ресовский Н.В. Н.В.Тимофеев-Ресовский избегал гипотез, теорий, законов (выдвижение которых связано с их авторами или которые носят имена авторов, но легко теряют силу) и не нагромождал Монблан частных экспериментальных работ, которым невозможно дать интерпретацию. Он отдавал предпочтение общим принципам (авторство которых легко теряется, и они становятся чем-то само собой разумеющимся). Он получал ключевые экспериментальные результаты и оформлял общие принципы какой-либо научной дисциплины. Расставив таким образом вехи для других исследователей и обеспечив их работе точность мысли, он обращался к иной дисциплине, где и повторял все снова. "Нет царской дороги в геометрию", — говорил Александру Македонскому его учитель Аристотель. Но если точность — вежливость королей, то Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский вел себя по-королевски и в науке, и в жизни. © Бабков В.В. НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ (к столетию со дня рождения) // Информационный вестник ВОГиС, 2000, №15 ____________________________ * 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озёрск) в 16:22 из-за выхода из строя системы охлаждения произошёл взрыв ёмкости объёмом 300 м3, где содержалось около 80 м3 высокорадиоактивных ядерных отходов. Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, ёмкость была разрушена, бетонное перекрытие толщиной 1 метр весом 160 тонн отброшено в сторону, в атмосферу было выброшено около 20 млн кюри радиоактивных веществ. Часть радиоактивных веществ были подняты взрывом на высоту 1—2 км и образовали облако, состоящее из жидких и твёрдых аэрозолей. В течение 10—11 часов радиоактивные вещества выпали на протяжении 300—350 км в северо-восточном направлении от места взрыва (по направлению ветра). В зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината «Маяк», военный городок, пожарная часть и далее территория площадью 23 000 км2 с населением 270 000 человек в 217 населённых пунктах трёх областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. В ходе ликвидации последствий аварии 23 деревни из наиболее загрязнённых районов с населением от 10 до 12 тысяч человек были отселены, а строения, имущество и скот уничтожены. Для предотвращения разноса радиации в 1959 году решением правительства была образована санитарно-защитная зона на наиболее загрязнённой части радиоактивного следа, где всякая хозяйственная деятельность была запрещена, а с 1968 года на этой территории образован Восточно-Уральский государственный заповедник. В настоящий момент зона заражения именуется Восточно-Уральским радиоактивным следом (ВУРС). Для ликвидации последствий аварии привлекались сотни тысяч военнослужащих и гражданских лиц, получивших значительные дозы облучения. (Прим. разработчиков) Научные труды Н.В. Тимофеева-Ресовского
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1950 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1977 1978 1980 1981 1989
Закрыть |  |
Коштоянц Хачатур Седракович (1900 – 1961) Физиолог. Основные труды посвящены проблемам эволюции функций организмов и теоретическим основам эволюционной физиологии. Разработал энзимохимическую медиаторную гипотезу возбуждения нервных волокон, стававшую основой современных представлений о медиаторном взаимодействии в нервных клеток. Подробнее...
Академик Окончил 2-й МГУ (1926). Доктор биологических наук (1935, без защиты диссертации). Профессор (1935). Член-корреспондент отделения математических и естественных наук (сравнительная физиология) АН СССР (1939). Академик АН Армянской ССР (1943). Профессор зоологического отделения (1931–1933). Заведующий кафедрой физиологии животных/физиологии человека и животных (1942–1961), декан (1958) биологического/биолого-почвенного факультета. Работал в МГУ с 1929 г. В 1945 г. вместе с другими профессорами подписал письмо на имя И.В.Сталина о необходимости разработки перспективного плана развития университета, для чего совершенно неотложным делом является строительство новых учебных корпусов и закрепления для этой цели постоянных земельных участков. Директор Института истории естествознания АН СССР (1946–1953). Депутат Верховного Совета СССР (1946–1950). Награждён орденами Ленина (1955), «Знак Почёта» (1940), Трудового Красного Знамени (1943, 1945), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Область научных интересов: теория эволюционной физиологии, история отечественной и мировой физиологии. Сталинскую премию получил за научный труд «Очерки по истории физиологии в России» (1946). Ломоносовскую премию получил за исследование «Белковые тела, обмен веществ и нервная регуляция», изданное в 1951 г. Читал курсы «Сравнительная физиология», «Физиология и биохимия животных», «Высшая нервная деятельность». Основные труды
© Летопись Московского университета Коштоянц Хачатур Седракович Закрыть |  |
Бляхер Леонид Яковлевич (1900 – 1987) Историк науки и эмбриолог. Доктор биологических наук, профессор. Ученик М.М. Завадовского. С 1942 по 1949 год работал в Институте цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР. Основные научные труды посвящены вопросам эмбриогенеза и истории биологии. Проанализировал историю исследований по "проблеме наследования приобретённых признаков" – историю априорных и эмпирических попыток её решения. Подробнее... 
Доктор биологических наук, профессор, Л.Я. Бляхер — известный эмбриолог и историк науки; занимался исследованием проблем регенерации, а также разработкой целостной концепции индивидуального развития; специалист в области истории биологии; автор монографий «История эмбриологии в России», «Очерк истории морфологии животных», «А.Н. Северцов и ламаркизм», «Проблема наследования приобретенных признаков», «Проблемы морфологии животных». Леонид Яковлевич родился в Самаре в семье земского статистика. В 1920 г. он поступил на медицинский факультет Второго Московского университета (в прошлом Московские Высшие женские курсы). Будучи студентом, Леонид Яковлевич прошел обучение на Большом зоологическом практикуме Н.К. Кольцова, что давало основание быть причисленным к Кольцовской школе. Его преподавателем на зоологическом практикуме был М.М. Завадовский. В это время он посещал также биологический кружок М.М. Завадовского в Московском зоопарке. Михаил Михайлович здесь начинал свои известные исследования по гормональному переопределению пола у птиц с помощью пересадки половых желез. Вокруг него сплотилась группа способной молодежи: Н.А. Ильин, Я.М. Кабак, Л.Я. Бляхер, Б.Н. Кудряшов, М.С. Мицкевич, М.А. Воронцова, Л.Д. Лиознер и др. (Григорьян, Музрукова, 1994). Принадлежность Леонида Яковлевича в студенческие годы к школе Н.К. Кольцова сыграла большую роль не только в становлении его научного мировоззрения, но также в формировании гражданской позиции, которая проявилась, прежде всего, в борьбе с лысенковщиной в последующие годы. После окончания Второго МГУ в 1925 г. Леонид Яковлевич стал ассистентом кафедры общей биологии этого университета, а с 1933 г. возглавил кафедру общей биологии. С 1927 по 1937 г. он был также заведующим Кропотовской биологической станцией, которая в это время находилась в ведении Второго МГУ. В этот период Леонид Яковлевич был также заведующим лабораторией постэмбрионального морфогенеза в Институте экспериментального морфогенеза при Московском государственном университете. В этом институте работали и другие известные представители школы Н.К. Кольцова. Лабораторию экспериментального морфогенеза возглавлял Д.П. Филатов, лабораторию гистогенеза — А.В. Румянцев, лабораторию цитологии — П.И. Живаго. Л.Я. Бляхер известен своими исследованиями проблем регенерации. Этот процесс он рассматривал в качестве модели для анализа закономерностей эмбрионального и постэмбрионального развития. Занимаясь регенерацией у амфибий, он показал зависимость данного процесса от локализации и стадии развития (Бляхер, 1932, Бляхер, Лиознер, 1934). Леонид Яковлевич предполагал также участие митогенетического излучения в восстановительных процессах в качестве опосредующего фактора. Основную задачу своих исследований он видел в разработке целостной концепции индивидуального развития. Важное место в научном наследии Леонида Яковлевича занимает статья «Каузально-аналитический метод в учении об индивидуальном развитии» (совместно с М.А. Воронцовой и Л.Д. Лиознером). В этой критической статье анализируются основные постулаты Вильгельма Ру относительно определяющих и детерминирующих факторов морфогенеза. Авторы статьи предложили отказаться от поиска этих факторов, поскольку закономерности морфогенеза определяются всем комплексом условий развития. Дискуссия имела резонанс в научных кругах. Работы Леонида Яковлевича и его коллег цитировались Г. Шпеманом, а также упоминались в учебниках по эмбриологии (Григорьян, Музрукова, 1994). 
Бляхер Л.Я. В 1935 г. ему была присуждена ученая степень доктора биологических наук, а также присвоено звание профессора. В 1945 г. Л.Я. Бляхер стал заведующим лабораторией теоретической биологии Института экспериментальной биологии АМН СССР. Следует отметить, что еще в 1929 г. он опубликовал очерк по истории генетики «Хромосомная теория наследственности» в серии «Наука XX века», продемонстрировав тем самым свое пристрастие к проблемам истории науки, которая впоследствии станет главным делом его жизни. В этот период Л.Я. Бляхер читал курс регенерации в Московском государственном университете на кафедре динамики развития организма, которой руководил М.М. Завадовский — учитель Леонида Яковлевича. В 1937 г. он написал учебник «Курс общей биологии с зоологией и паразитологией», который пользовался большой популярностью и спросом. За семь лет он переиздавался четыре раза. Тем не менее, эта замечательная книга подвергалась ожесточенной критике со стороны приверженцев лысенковской биологии. Критики называли учебник порочным. Автора обвиняли «в слепой приверженности менделизму-морганизму». В своем учебнике Леонид Яковлевич поместил портреты Менделя, Вейсмана, Моргана, но отсутствовали портреты Т.Д. Лысенко и И.В. Мичурина. В итоге книгу Л.Я. Бляхера было запрещено использовать в качестве учебного пособия и ее изъяли из библиотек учебных заведений. Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 г. самым драматическим образом сказалась на его судьбе, как и на судьбе многих учеников Н.К. Кольцова. В 1948 г. Леонид Яковлевич был уволен с поста заведующего кафедрой общей биологии в Медицинском институте и руководителя лаборатории в Институте экспериментальной биологии АМН СССР. Сохранился текст приказа о его освобождении от заведования кафедрой общей биологии, подписанный министром высшего образования и министром здравоохранения СССР: «Освободить профессора Л.Я. Бляхера от работы заведующего кафедрой общей биологии 2-го Московского государственного медицинского института имени И.В. Сталина, как активного приверженца и пропагандиста реакционного вейсмановско-менделевско-моргановского направления в биологии, и назначить на эту должность профессора-мичуринца» (цит. по: Григорьян, Музрукова, 1994). Леонид Яковлевич оставался безработным до 1955 г. В 1955 г. он был принят на работу в Институт истории естествознания и техники АН СССР на должность старшего научного сотрудника. В течение 20 лет он возглавлял в этом институте сектор истории биологических наук. Данный период стал началом формирования отечественной школы истории биологии. Леонидом Яковлевичем созданы фундаментальные труды по истории биологии. В 1955 г. была опубликована его двухтомная монография: «История эмбриологии в России» (Издательство АН СССР). Автор провел исчерпывающий анализ становления отечественной эмбриологии, начиная с трудов К. Бэра и кончая выдающимися исследованиями А.О. Ковалевского и И.И. Мечникова. В 1962 г. была издана монография Леонида Яковлевича «Очерк истории морфологии животных». Позднее вышли его монографии «А.Н. Северцов и ламаркизм» (1970) и «Проблема наследования приобретенных признаков» (1971). Последняя книга имела большой резонанс, поскольку в послелысенковскую эпоху борьба с тяжелыми последствиями лысенковщины продолжалась. 
Профессор На судьбе книги «Проблема наследования...» необходимо остановиться подробнее. Ее публикация в издательстве «Наука» была под угрозой. Н.А. Григорьян и Е.Б. Музрукова (1994) по этому поводу писали: «Спас этот выдающийся труд академик Б.Л. Астауров, человек большого ума и таланта и столь же щедрого сердца. Леониду Яковлевичу пришлось поступиться многим, но тем не менее для тех, кто умел читать между строк, было совершенно ясно, что эта книга не просто посвящена «проблеме наследования приобретенных признаков и многовековым дискуссиям на эту тему», как сказано в аннотации к ней. Труд ученого является приговором научной некомпетентности, а приводимые в ней результаты экспериментов, теоретические воззрения классиков биологии воспринимаются вне временного контекста. В сравнении с ними все высказывания Лысенко и К° выглядят невежественной болтовней. Не случайно, что эта монография — одна из немногих работ по истории биологии, переведенных на английский язык (издана в США в 1984 г.). Более блестящего анализа этой проблемы до книги Бляхера история биологии не знала». Леонид Яковлевич поддерживал тесные связи с учениками Н.К. Кольцова. Он был руководителем Кропотовской биостанции, когда она находилась в ведении Второго МГУ, а в 1937 г. ее передали Кольцовскому институту. На биостанцию приезжал Николай Константинович. Здесь проводили свои исследования многие сотрудники института, а также ученые из других научных учреждений страны.
Леонид Яковлевич Бляхер у могилы академика Б.Л. Астаурова на Новодевичьем кладбище. 1978 г.
Л.Я. Бляхер не терял связи с представителями Кольцовской школы. Леонид Яковлевич общался с Б.Л. Астауровым и помогал ему в работе, в частности, над книгой о Н.К. Кольцове. В 1974 г. Борис Львович в своем письме к Д.К. Беляеву писал: «Главное дело, которым я занимался, — доводка книги о Кольцове, подбор к ней иллюстраций, мелкая правка после просмотра (вполне положительного) Л.Я. Бляхера и т.д. Вероятно, если судить по судьбе Кольцовской библиографии..., лежащей в издательстве уже почти 7(!!!) лет, эту вторую книжку о Кольцове, которой Бляхер «восхищен», ожидает та же судьба». Прогнозы Бориса Львовича, к счастью, не оправдались. Книга Б.Л. Астаурова и П.Ф. Рокицкого «Николай Константинович Кольцов» была выпущена в 1975 г. В 1976 г. Леонид Яковлевич опубликовал монографию «Проблемы морфологии животных», которая подводила итог его научного творчества. В книге отражено развитие основных направлений этой старейшей науки, служившей фундаментом эволюционных построений на протяжении веков. В главе, где речь идет о материальной природе процессов, определяющих морфологические структуры, автор впервые смог писать о работах Н.К. Кольцова и некоторых его учеников. Для Леонида Яковлевича — представителя Кольцовской школы — это было важной вехой. Л.Я. Бляхер скончался в 1987 г. © Озернюк Н.Д. Леонид Яковлевич Бляхер (1900 – 1987) // В книге: Озернюк Н.Д. Научная школа Н.К. Кольцова. Ученики и соратники. М., 2012,Товарищество научных изданий КМК, С. 303-307. Основные научные труды
Закрыть |  |
Гаузе Георгий Георгиевич (1940 – 2019) Биохимик, генетик, молекулярный биолог. Ученик И.Б. Збарского. Доктор биологических наук, профессор. Был одним из первых в нашей стране ведущих специалистов в области изучения биохимии и молекулярной биологии нуклеиновых кислот, генной инженерии, механизмов действия антибиотиков. Организатор и первый руководитель лаборатории молекулярной генетики ИБР. Подробнее...
Георгий Георгиевич Гаузе. Георгий Георгиевич Гаузе многие десятилетия работал в Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова. После окончания кафедры биохимии Биофака МГУ в 1962 году Георгий Георгиевич поступил в аспирантуру Института морфологии животных АН СССР. С 1965 года Г.Г. Гаузе работал в лаборатории биохимии клеточных структур ИМЖ АН СССР, возглавляемую Ильей Борисовичем Збарским, которая с 1967 года стала Лабораторией биохимии Института биологии развития АН СССР, а с 1985 года возглавлял лабораторию молекулярной генетики ИБР РАН. Г.Г. Гаузе Г.Г. Гаузе был одним из первых в нашей стране ведущих специалистов в области изучения биохимии и молекулярной биологии нуклеиновых кислот, генной инженерии, механизмов действия антибиотиков. Георгий Георгиевич Гаузе, Георгий Георгиевич, блестяще владея английским языком, был прекрасным переводчиком-синхронистом на многих международных конференциях в нашей стране и за рубежом. Будучи высоким профессионалом, ярким и остроумным человеком, он пользовался большим уважением сотрудников и коллег по научному сообществу. На оз. Молдино, Последние годы Г.Г. Гаузе жил и работал в США, однако регулярно приезжал на родину. Основные публикации
Использованные материалы
Георгий Георгиевич Гаузе рассказывает о том, как он приобретал дом в деревне на озере Молдино (году в 1985-86-м), когда стройка Калининской АЭС выселила их с дачи на острове Двиново на берегу озера Удомля. Съемка 25.07.2013 г. в д. Островно, в доме Алексея Чудинова (тогда - смотрителя музея в Островно). Видео выкладывается для рассказа о Г.Г.Гаузе на
краеведческом форуме Путника
Закрыть |  |
Гинзбург Анна Самойловна (1915 – 1993) Эмбриолог. Основные исследования посвящены изучению процесса оплодотворения у рыб и механизмов, обеспечивающих блок полиспермии. Создала концепцию о смене типов оплодотворения в эволюции. Подробнее...
Доктор биологических Исследования доктора биологических наук Анны Самойловны Гинзбург, многие из которых стали классическими, были посвящены изучению процесса оплодотворения у рыб и механизмов, обеспечивающих блок полиспермии.
А.С. Гинзбург
в президиуме торжественого собрания посвященного 50-летию революции.
Анной Самойловной была разработана детальная инструкция по осеменению яйцеклеток осетровых рыб, которая вот уже на протяжении многих десятилетий используются в мировой практике их искусственного разведения.
А.С. Гинзбург в конференц-зале ИБР.
А.С. Гинзбург была, крупным ученым, талантливым исследователем, автором нескольких книг и 90 научных статей, опубликованных в отечественных и международных журналах. Работы А. С. Гинзбург по механике развития органов чувств амфибий, проблеме оплодотворения у рыб и амфибий и биотехнике разведения осетровых рыб останутся в ряду классических исследований по эмбриологии и биологии развития.
Более 25 лет она была заместителем зав. лаб. экспериментальной эмбриологии им. Д.П. Филатова Института биологии развития АН СССР. Благодаря работам А.С. Гинзбург осетровые стали почти таким же классическим объектом эмбриологии, как амфибии и птицы. Она автор монографии "Оплодотворение у рыб и проблема полиспермии" (1968 г., перевод на английский язык – 1972 г., премия им. А.О. Ковалевского – 1970 г.). В 1954, 1969 и 1981 гг ею выпущены 3 книги, в которых, кроме описания развития разных видов осетровых, содержатся рекомендации по совершенствованию биотехники их заводского разведения.
Анна Самойловна Гинзбург cреди сотрудников лаборатории экспериментальной эмбриологии.

В 1993 г. вышла в издательства Springer-Verlag подготовленная А.С. Гинзбург вместе с Т.А. Детлаф и О.И. Шмальгаузен кн. "Sturgeon Fishes. Developmental Biology and Aquaculture". С 1970 г. А.С. Гинзбург была зам. главного редактора журнала "Онтогенез" и много сделала для его становления. © ИБР РАН История лаборатории эволюции генома и механизмов видообразования // Официальный сайт ИБР РАНОсновные публикации
Закрыть |  |
Строева Ольга Георгиевна (1925 – 2021) Биолог развития. Доктор биологических наук, профессор. Пионерские экспериментальные исследования раннего развития глаза млекопитающих, ретинального пигментного эпителия (РПЭ), изучение морфогенетической роли внутриглазного давления в развитии глаза. Более трех сотен научных публикаций, две монографии, а также ряд патентов и изобретений. Заведовала лабораторией клеточной дифференцировки ИБР РАН. Подробнее...
Ольга Георгиевна Строева (1925-2021) — доктор биологических наук, профессор, выдающийся ученый, специалист в области биологии развития, создатель научного направления в области сравнительных экспериментальных исследований развития глаза позвоночных. Более 20 лет О.Г. Строева заведовала лабораторией клеточной дифференцировки Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН). Известность в нашей стране и за рубежом Ольге Георгиевне принесли пионерские экспериментальные исследования раннего развития глаза млекопитающих, ретинального пигментного эпителия (РПЭ), изучение морфогенетической роли внутриглазного давления в развитии глаза. По инициативе Ольги Георгиевны и в тесном сотрудничестве с медиками было создано новое офтальмологическое лекарственное средство, внедренное в медицинскую практику.
Ольга Георгиевна Строева. В 1946 году еще студенткой 3 курса Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по рекомендации Л. В. Крушинского она начала работать под руководством Г.В. Лопашова в Лаборатории механики развития им. Д.П. Филатова Института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР (впоследствии ИБР РАН). С лета 1947 по весну 1949 года она выполняла дипломную работу по теме соотношения развития плавников и тела у личинок амфибий, исследуя роль мезенхимально-эпителиального взаимоотношения в детерминации развивающихся органов в эмбриональном развитии. В 1949 году Ольга Георгиевна защитила дипломную работу и поступила в аспирантуру кафедры эмбриологии биофака МГУ (заведующий кафедрой В.В. Попов), продолжая вести работу на базе Лаборатории механики развития им. Д.П. Филатова под руководством Г.В. Лопашова. В 1951 году она защитила кандидатскую диссертацию "Экспериментальное исследование причинных связей в развитии плавников и конечностей у личинок амфибий", после чего была зачислена на должность младшего научного сотрудника в Институт морфологии животных АН СССР, из которого впоследствии выделился Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН. В стенах Института Ольга Георгиевна проработала 70 лет. Под руководством Г.В. Лопашова Ольга Георгиевна участвовала в решении проблемы преодоления трансплантационной несовместимости, а также в разработке методических подходов к изучению механизмов регенерации сетчатки млекопитающих. В этот период происходило совершенствование Ольги Георгиевны как талантливого и изобретательного экспериментатора. О.Г. Строева Период совместной работы с Г.В. Лопашовым был отмечен крупными обобщающими публикациями: обзор в Advances in Morphogenesis (Lopashov, Stroeva, 1960), статья в Journal of Embryology and Experimental Morphology (1960) и монография "Развитие глаза в свете экспериментальных исследований" (Лопашов, Строева, 1963), переведенная в 1964 году в Израиле на английский язык (G.V. Lopashov, O.G. Stroeva. Development of the eye: experimental studies. 1964. Israel Program for Scientific Translation, Jerusalem). Результаты исследований были доложены Ольгой Георгиевной на Международной эмбриологической конференции в Париже (1959). В те же годы Ольга Георгиевна совместно с Л.А. Никитиной и Т.А. Детлаф работала по теме пересадки ядер у бесхвостых амфибий для исследования ядерно-плазменных взаимодействий в развитии. С этой целью в неоплодотворенную энуклеированную яйцеклетку пересаживали ядра клеток на стадии бластулы, разных стадий гаструлы и ядра соматических клеток. Результаты были представлены на Международной эмбриологической конференции в Хельсинки (1963) и в отечественных и зарубежных публикациях. Ольга Георгиевна на трибуне в конференц-зале ИБР. В самостоятельных экспериментальных исследованиях Ольгу Георгиевну интересовала проблема трансдифференцировки клеток РПЭ крыс в сетчатку в период эмбрионального развития. С самого ли начала РПЭ детерминирован как таковой, или на ранних стадиях он способен превращаться в сетчатку как у бесхвостых амфибий? Этот вопрос исследовался в условиях культивирования зачатков глаз в органной культуре с использованием в качестве культуральной среды жидкости передней камеры глаза взрослых крыс. Результаты многочисленных экспериментов, проведенных Ольгой Георгиевной по пересадке глазных зачатков на стадиях глазного пузыря и глазного бокала, были обобщены в ее докторской диссертации, защищенной в1968 году. Ольга Георгиевна среди сотрудников ИБР на торжественном митинге в честь открытия мемориальной доски в память Б.Л. Астаурова. Институт биологии развития, 1977 г.
Работы Ольги Георгиевны пользуются признанием в нашей стране и в мировой науке. В 2003 г. Ольге Георгиевне (совместно с д.б.н. В.И. Миташовым) была присуждена Премия имени А.О. Ковалевского за цикл работ "Исследование механизмов дифференцировки и трансдифференцировки клеток в сравнительном ряду позвоночных". В 2020 г. Ольге Георгиевне была вручена ведомственная награда Минобрнауки России — почетное звание "Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации".
В своей работе Ольга Георгиевна впервые показала, что на стадиях эмбрионального развития крыс (до 17-го дня) РПЭ способен претерпевать ретинальную дифференцировку в пределах слоя РПЭ, что дифференцировка радужки и цилиарного тела в краевых зонах глазного бокала зависит от индуцирующего влияния эпителия хрусталика, а сосудистая оболочка — от влияния РПЭ. После 17-го эмбрионального дня превращения РПЭ в сетчатку не происходит. Этот результат оказался важным для объяснения врожденных аномалий глаза человека, таких как типичная и атипичная колобомы. В 1971 году по материалам диссертации была опубликована монография "Морфогенез и врожденные аномалии глаза млекопитающих". В дальнейшем моделью исследований Ольги Георгиевны стал РПЭ серых крыс (СК) в пре- и постнатальном развитии и эмбрионов птиц, на котором исследовали соотношение процессов пролиферации и меланотической дифференцировки в становлении функций РПЭ. Показано, что у теплокровных животных дифференцировка РПЭ определяется фактором натяжения. Формирование же сосудистой оболочки из окружающей мезенхимы зависит от нормальной дифференцировки РПЭ. Ольга Георгиевна Верний ряд (слева направо): Симирский Владимир Николаевич, Кузнецова Алла Викторовна, Маркитантова Юлия Владимировна, Сухинич Кирилл Константинович, Александрова Мария Анатольевна, Куринов Александр Михайлович, Дашенкова Наталия Олеговна, Авдонин Петр Павлович, Новикова Юлия Петровна, Микаелян Арсен Суренович. Нижний ряд: Строева Ольга Георгиевна, Григорян Элеонора Норайровна, Поплинская Валентина Антониновна, Панова Ина Георгиевна, Зиновьева Рина Дмитриевна. В экспериментах под руководством и при участии Ольги Георгиевны было показано, что у новорожденных СК в РПЭ в результате пролиферативной активности происходит преобразование популяции исходно одноядерных клеток в популяцию двуядерных. К моменту открытия век двуядерные клетки в центральной зоне РПЭ достигают 80%. Двуядерными клетки РПЭ становятся в результате митоза, не завершающегося цитотомией. При этом клетки РПЭ способны совмещать клеточную пролиферацию и специфическую дифференцировку (меланизацию). Было показано, что степень меланизации клеток РПЭ коррелирует с пиком G2-фазных клеток (3-и сутки после рождения), когда клетки РПЭ наиболее восприимчивы к меланотропным гормонам, и именно на этот период приходится пик меланотропных гормонов в крови СК. Таким образом, впервые была обоснована зависимость меланотической дифференцировки РПЭ СК от меланотропной активности передней доли гипофиза, которая, в свою очередь, регулируется серотонином. Было также обнаружено, что у крыс РПЭ обладает способностью к фагоцитозу мембранных дисков наружных сегментов фоторецепторных клеток сетчатки задолго до формирования этих сегментов в нормальном развитии.
Ольга Георгиевна Работы Ольги Георгиевны пользуются признанием в нашей стране и в мировой науке. В 2003 г. Ольге Георгиевне (совместно с д.б.н. В.И. Миташовым) была присуждена Премия имени А.О. Ковалевского за цикл работ "Исследование механизмов дифференцировки и трансдифференцировки клеток в сравнительном ряду позвоночных". В 2020 г. Ольге Георгиевне была вручена ведомственная награда Минобрнауки России — почетное звание "Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации".
О.Г. Строева. Немалое место в жизни Ольги Георгиевны занимала научно-организационная деятельность. Она была членом редколлегии журналов "Онтогенез" и "Архив анатомии, гистологии и эмбриологии", организатором и докладчиком ряда научных конференций и школ по биологии развития, читала лекции на кафедре эмбриологии МГУ, в Тбилисском Государственном университете, на кафедре цитологии ЛГУ, в Институте глазных болезней им. Гельмгольца. Ольга Георгиевна являлась составителем или ответственным редактором книг о замечательных ученых школы Николая Константиновича Кольцова — И.А. Рапопорте и Б.Л. Астаурове. Перу Ольги Георгиевны принадлежит более трех сотен научных публикаций, две монографии, а также ряд патентов и изобретений. Ольга Георгиевна Строева осознавала великую силу нравственных традиций и являла собой образец бескомпромиссного служения интересам науки. © А.В. Васильев, И.С. Захаров, М.В. Угрюмов, И.Г. Панова Ольга Георгиевна Строева (1925 — 2021) // ОНТОГЕНЕЗ, 2021, том 52, № 3, с. 233-234  Воспоминания Воспоминанияглавного научного сотрудника ИБР РАН, доктора биологических наук, профессора Ольги Георгиевны Строевой (фильм в трех частях) Закрыть |  |
Полежаев Лев Владимирович (1910 – 2000) Биолог развития, ученик Н.К. Кольцова. Автор оригинальных исследований в области регенерации и трансплантации органов и тканей позвоночных животных. Разработал метод получения регенерации нерегенерирующих конечностей. Предсказал роль трофических воздействий на регенерацию в нервной системе. В ИБР руководил лабораторией экспериментальной морфологии с 1967 по 1975 г. Подробнее...
Лев Владимирович Лев Владимирович Полежаев родился 15 декабря 1910 года в Москве. Происходил из дворянского рода, его отец работал служащим в Госсберкассе, мать была учительницей. С 1929 г. Л.В. Полежаев учился во II Московском медицинском институте и Московском государственном университете, окончив последний в 1932 г. по зоологическому отделению со специализацией по теме «динамика развития организма». В октябре 1932 – феврале 1933 гг. работал научным сотрудником в Институте экспериментального морфогенеза Наркомпроса. В марте 1933 – феврале 1935 гг. — ассистент и научный работник I Московского медицинского института, затем работал научным сотрудником в лаборатории динамики развития организма МГУ и Лаборатории экспериментальной зоологии АН СССР, лаборатории механики развития Института экспериментальной биологии Наркомздрава РСФСР. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — начальник лаборатории клинического анализа эвакогоспиталя. В 1945 г. была опубликована первая монография ученого «Основы механики развития позвоночных».
Л.В. Полежаев C 1967 по 1975 в Институте биологии развития — заведующий лабораторией экспериментальной морфологии. В 1975—1990 гг. — старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, главный научный сотрудник Института общей генетики АН СССР. С 1991 года был главным научным сотрудником-консультантом Института общей генетики РАН. Основные научные труды Л.В. Полежаева относятся к экспериментальной морфологии (биология развития), учению о регенерации, механике развития органов, проблемам трансплантации органов и тканей. В 1962–1963 годах Л. В. Полежаев и его сотрудница Э.Н. Карнаухова осуществили пересадку кусочка мозга от одной крысы к другой, используя для трансплантации растертую, бесклеточную нервную ткань. Опыт оказался удачным — ткань мозга у животных на месте дефекта восстановилась. В продолжение исследований была обнаружена в эксперименте и продемонстрирована способность центральной нервной системы холоднокровных позвоночных — рыб, амфибий, рептилий к репаративной и физиологической регенерации нервной ткани.
Л.В. Полежаев Помимо экспериментов по репаративному нейрогенезу в головном мозге у взрослых животных, исследователь занимался проблемами регенерации костной ткани, мышц (в том числе сердечной), конечностей и др., разработал метод регенерации нерегенерирующих конечностей. Совместно с другими исследователями Л.В. Полежаев разработал средство для лечения инфаркта миокарда — метапрогерол (1983). Л.В. Полежаев — автор семи монографий, посвященных, в частности, проблемам стимуляции регенерации мышцы сердца (1965), восстановлению регенерационной способности органов и тканей у животных (1968, 1977), трансплантации тканей мозга (1986, 1993; в соавторстве с М.А. Александровой); а также многих статей в научных и научно-популярных журналах.
Регенерация конечности метаморфозирующей лягушки (слева). Справа — контроль, после обычной ампутации идет гладкое заживление. Л.В. Полежаев был членом редколлегии «Journal of Neural Transplantation & Plasticity». Состоял действительным членом Международного института эмбриологии (г. Утрехт), членом Международного общества биологов развития (Хельсинки). О семье: Л.В. Полежаев был женат, жена — Ольга Полежаева (брак заключен в 1936 г.); в браке родилась дочь Елена (1949 г.) Лев Владимирович Полежаев скончался 19 ноября 2000 года. © 2017 Архивы Российской академии наук. Полежаев Лев Владимирович // АРАН.Фонд 2054. Книги
Основные публикации в журналах и сборниках
Изобретения
Закрыть |  |






































 Гаузе Г.Г. Митохондриальная ДНК / М. : Наука, 1977. - 288 с.
Гаузе Г.Г. Митохондриальная ДНК / М. : Наука, 1977. - 288 с.